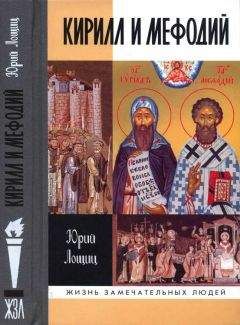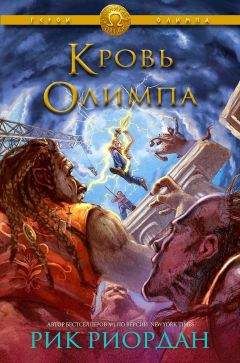Так написал Константин едва ли не первое в своей жизни стихотворение.
«Только научи меня…»
Нет ребёнка, который бы, едва научась говорить, не задумывался о том, почему именно такими словами, а не другими называют люди друг друга или то, что их окружает. Почему мать — это «мать»? А вода — «вода»? А огонь — «огонь»?.. Почему и когда так произошло? Люди ли договорились, что будут всё окружающее называть именно такими словами, или кто их надоумил? И почему те, что говорят на чужом языке, — латиняне или славяне — придумывают для себя или получают от кого-то совершенно другие слова?
Этимологией — поиском первосмыслов речи — человек увлекался с древнейших времён, не догадываясь, что когда-нибудь увлечение станет наукой. Этимологическое любопытство, этимологическое беспокойство врождены человеку. Во всём, с чем он ежедневно имел дело, он видел проявление причин и последствий. Удар камня по пальцу вызывает боль. Причиной пожара бывает молния. Солнечный жар причиняет засуху, жажду и сонную одурь.
Но где причины слов? Лишь в некоторых случаях они заявляют о себе. Произнося слова «свист», «грохот», «вой», «кукушка», «скрипит», «мычит», «блеет», человек догадывался, что слова эти — более или менее похожие отражения звуков, услышанных извне. Как было бы просто, если бы все слова возникали как подражания внешним звукам. Но для большинства существующих слов звукоподражание не становится отчётливой причиной их рождения. «Небо», «земля», «море», «Бог», «свет», «слово», «смысл», «значение», «причина»… Великими смыслами держится понимание между людьми. Но какой силой держатся из века в век сами смыслы? Только ли властью привычки: давайте, мол, условимся говорить так и не будем задумываться больше над тем, почему именно так, а не иначе мы говорим.
Ребёнок, то и дело вопрошающий взрослых о смыслах слов, чаще всего не получает ответов. Его вопросы вызывают недоумение, ухмылки, какие-то косноязычные отговорки. От него отмахиваются, как от надоевшей мухи. И он сам в конце концов устаёт спрашивать, вздыхает и внутренне сокрушается: ну, почему же ничего этого ни от кого невозможно узнать? Разве он спрашивает о чём-то запретном, чего вообще знать не должно никому?
Почти в самом начале «Жития Кирилла», сразу вслед за рассказом об увлечении мальчика сочинениями Григория Богослова, следует коротенький сюжет, похожий на притчу, какую-то странную, не до конца, возможно, раскрывшуюся и агиографу, и самому мальчику, повстречавшему однажды в Солуни загадочного чужеземца.
И в языческие времена, и в века христианские Средиземноморье знало этот особый пиетет по отношению к знаменитым приезжим учителям — философам, софистам, геометрам, риторам, грамматикам, музыкантам, законоведам. Этот обычай интеллектуального обмена соблюдался неукоснительно: Микены, Фивы, Афины, древние города Малой Азии, Египет, Рим, Карфаген, Вавилон, а позднее Дамаск, Антиохия, Иерусалим, Александрия неустанно посылали из своих стен и в своих стенах принимали великих, именитых, блестящих, просто модных наставников, светил, учителей жизни. И всегда среди них было больше деловых гастролёров, великолепных шарлатанов, милых болтунов, чем подлинных знатоков своего ремесла, искусства, рода знания. Но выезжали-приезжали по приглашениям и подлинно великие умы: тот же Платон, тот же Аристотель, наставлявший юного Александра Македонца.
Что это был за чужеземец-учитель, о прибытии которого в Солунь однажды услышал начинающий школяр Константин? Имя его в житии не названо; откуда прибыл, не сказано. Известно лишь, что профессией его было преподавание грамматики. Каким-то образом мальчик выведал, где обитает приезжий наставник. Один ли он пришёл к учителю или в сопровождении взрослых, не ясно. Но в любом случае поражает недетская решимость просителя. «И придя к нему, молил его и, к ногам припадая, обратился к нему: Сотвори добро, научи меня искусству грамматическому"».
Чужестранец обошёлся с Константином сурово: «Не трудись, мальчик. Дал я себе зарок никого не учить этому в своей жизни». Мальчик же снова, со слезами кланяясь, ему говорил: «Возьми всю мою долю в доме отца моего, что мне принадлежит, только научи меня».
Но и богатым вознаграждением приезжий учитель не соблазнился.
Вот, пожалуй, единственный случай во всей жизни Константина, когда он открывается в своих чувствах перед неизвестным ему человеком с такой пылкостью, граничащей с безрассудством. Может, именно это насторожило чужеземца, и он в порыве мальчика разглядел лишь каприз богатого дитяти? А то и всплеск душевной неуравновешенности? Часто ли попадаются наставникам дети, которые так сильно и настойчиво выражают желание учиться? Да ещё и грамматике учиться — науке наук!
Похоже, тут действительно обозначилась какая-то критическая и даже опасная точка во внутреннем состоянии подростка. Агиограф определяет это состояние как «большое уныние», вызванное тем, что Константин, развиваясь очень уж стремительно, открывал для себя всё новые и новые «рассуждения и высокие мысли», но при этом не поспевал, а, скорее, не умел без помощи мудрого наставника разобраться в противоречивой пестроте своих приобретений.
Безжалостный, едва ли не оскорбительный отказ приезжего наставника заниматься с ним мог если не потрясти мальчика, то усугубить его уныние. Нежданная обидная неудача способна причинить неокрепшей душе беды, совершенно несопоставимые с их причиной.
Но Константин не поддаётся опасному настроению. Вернувшись домой, он с какой-то взрослой отвагой долго, истово молится, «чтобы исполнилось желание сердца его».
И оно вскоре нежданно исполняется.
СЛАВЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕФОДИЯ
Служба старшего младшему
О вполне сознательном стремлении Мефодия стоять в тени младшего брата уже говорилось и ещё не раз будет повод сказать. Да, Мефодий явно не хотел смотреться в событиях «Жития Кирилла» на равных с Философом. Наверное, попытки этого рода представлялись ему такими же смешными, как если бы луна пожелала постоянно застить солнце. Тем легче было Мефодию добиться своего, что он, как уже отмечено, участвовал в написании жития брата в качестве редактора-соавтора. Да, кстати, постарался и это своё соавторство сделать предельно незаметным.
Более того, он заранее постарался, чтобы после его смерти в кругу учеников и сподвижников не возникло вдруг намерение посмотреть на происшедшие события иначе, чем сам он смотрел, то есть всё-таки выставить его на равных с братом. И хотя это ему, в конце концов, не удалось, но когда среди учеников зашла речь о достойном увековечении житием его памяти, они с удивлением обнаружили: Мефодий оставил им о своей долгой и деятельнейшей жизни, — особенно о её первой и большей по годам части, чем та, что прошла у них на виду, — самые обрывочные сведения. Особенно эта клочковатость и скудость необходимейших свидетельств обескураживала, когда речь касалась его детских лет, отрочества, юности.