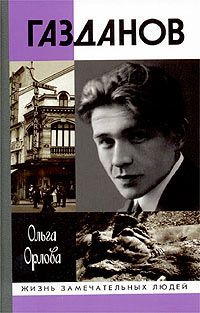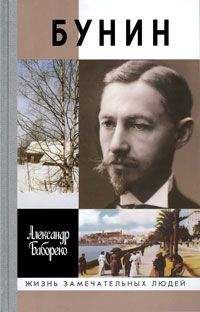Предчувствия не обманули нашего героя — не зря он не хотел расставаться с матерью. Военный уклад учреждения противоречил характеру и привычкам Гайто, и даже то обстоятельство, что корпусный праздник — 23 ноября — совпадал с его днем рождения, не могло изменить неприязненного отношения мальчика к военной дисциплине. Дети из настоящих военных семей, привыкшие к культу дисциплины, легче относились к строгим формальностям и муштре, на которых строилась красота воинской выправки. Бесконечные маршировки мимо изображений Петра в парадной зале, вынос знамен, краткие казенные обращения и такие же обязательно краткие ответы, вроде «никак нет» и «так точно», — все это казалось Гайто утомительным и ненужным. Ему непременно хотелось все переставить с ног на голову и ответить на краткий вопрос офицера как-нибудь иначе: «что вы, что вы, нет никак!» или «точно, точно так и есть!». Такие выходки были строго наказуемы. Легче было встать самому на голову — умение пройтись по длинному кадетскому коридору на руках Гайто считал главным и лучшим навыком, приобретенным за год пребывания в корпусе.
Не менее тягостным казалось Гайто и основательное религиозное воспитание будущих офицеров. Большинство воспитанников, будучи детьми военных, традиционно отличались приверженностью к православию и монархии, что передавалось им по наследству. В отличие от ровесников-гимназистов они чурались вольнолюбивых разговоров о политике и искусстве. Не только начальство, но и сами товарищи не поощряли собственное мнение кадета по тому или иному вопросу. Тем более не полагалось будущему офицеру заниматься толкованием Священного Писания. Его надо было просто знать. Гайто же, привыкший в семье к свободным суждениям, — Газдановы, независимо от темы разговора взрослых, никогда не выставляли из комнаты детей, – принимал покорное исполнение религиозных обрядов признак либо скудоумия, либо лицемерия. Он хорошо помнил снисходительное отношение отца и к духовенству даже к умеренной религиозности матери. Гайто и сам не понимал, зачем мать добровольно ходит в церковь, но заподозрить ее в неискренности не мог, а потому воспринимал по-отцовски, как одну из немногочисленных маминых слабостей — вроде боязни воды. В этом смысле семья Газданова не избежала еще одного знака той эпохи — всеобщего, ослабления религиозного чувства.
А в корпусе как раз с религией было строго: «…каждую субботу и воскресенье нас водили в церковь; и этому хождению, от которого никто не мог уклониться, я обязан был тем, что возненавидел православное богослужение. Все в нем казалось мне противным: и жирные волосы тучного дьякона, который громко сморкался в алтаре, и, перед тем как начинать службу, быстро дергал носом, прочищал горло коротким кашлем, и лишь потом глубокий бас его тихо ревел: благослови, владыко! — и тоненький, смешной голос священника, отвечавший из-за закрытых Царских врат, облепленных позолотой, иконами и толстоногими, плохо нарисованными ангелами с меланхолическими лицами и толстыми губами.
— Благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков…»
Не доставляло Гайто радости и изучение остальных предметов. Преподаватели не отличались особыми достоинствами, и это останется в памяти навсегда: «Учителя были плохие, никто ничем не выделялся, за исключением преподавателя естественной истории, штатского генерала, насмешливого старика, материалиста и скептика» («Вечер у Клэр»),
Гайто с нетерпением ждал Рождества и двухнедельного отпуска. Дома он сразу завел разговор о том, чтобы его забрали из Полтавы. Мать уговорила его потерпеть: «Может, привыкнешь? Первое время на новом месте всегда тяжело». Но в ее голосе Гайто не почувствовал ни убедительности, ни спокойствия.
Вернувшись в корпус после каникул, Гайто еще тяжелее перенес смену домашней обстановки на казарменную жизнь. И потому твердо решил упросить мать больше не отправлять его в Полтаву. Приехав за сыном в мае и получив подробный отчет о возмутительном поведении кадета Газданова, Вера Николаевна смирилась: в конце концов, если мнение классного наставника и мнение воспитанника совпадают — «таким не место в корпусе» — так тому и быть. «…кадетский корпус, — напишет Гайто в "Вечере у Клэр", — мне вспоминался как тяжелый, каменный сон. Он все еще продолжал существовать где-то в глубине меня; особенно хорошо я помнил запах воска на паркете и вкус котлет с макаронами, и как только я слышал что-нибудь, напоминающее это, я тотчас представлял себе громадные темные залы, ночники, дортуар, длинные ночи и утренний барабан… Эта жизнь была тяжела и бесплодна; и память о каменном оцепенении корпуса была мне неприятна, как воспоминание о казарме, или тюрьме, или о долгом пребывании в Богом забытом месте, в какой-нибудь холодной железнодорожной сторожке, где-нибудь между Москвой и Смоленском, затерявшейся в снегах, в безлюдном, морозном пространстве».
О принятом решении ни мать, ни сын никогда потом не пожалеют. Следующие пять лет окажутся для них последними перед разлукой. И если бы не это время, проведенное вместе, они, наверное, не узнали бы и не поняли друг друга так близко, что их взаимной любви хватило на всю последующую жизнь. «Позже моя мать стала мне как-то ближе, — признается он, — и я узнал необыкновенную силу ее любви к памяти отца и сестер и ее грустную любовь ко мне».
Яркий образ отца, присутствие няни, болезни сестер — все это в раннем детстве заслоняло мать от сына. А теперь, оставшись один на один, они разглядели друг друга, и Гайто почувствовал, что влияние матери на его мнения, интересы, вкусы огромно. Понял он и то, что своим вторым существованием — в мире книжных путешествий — он обязан не только отцу, но и матери. Это она в три с половиной года научила его читать, сначала по-русски, потом по-французски. Это она прочла ему любимых «Трех мушкетеров», поставив условием, что «Графа Монте-Кристо» он одолеет сам. Эта она подсовывала ему Брема и ограждала от бульварных романов. (Полупорнографические романы Гайто в свое время, разумеется, прочтет, но скорее из любопытства. Благодаря хорошему вкусу, сформированному матерью, они не нанесут ему большого ущерба.) Первым делом Гайто освоит именно материнскую часть библиотеки, состоявшую из русской и французской классики, и только позже доберется до философских книг, принадлежавших отцу.
От матери он унаследовал три едва ли не самые важные вещи в своей жизни — феноменальную память, гибкость воображения и тонкое чувство языка. В дальнейшем они определят его путь. А пока ему предстояло новое путешествие — немного на восток — перед Первой мировой войной Гайто с матерью переехали в Харьков.