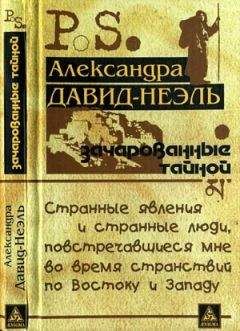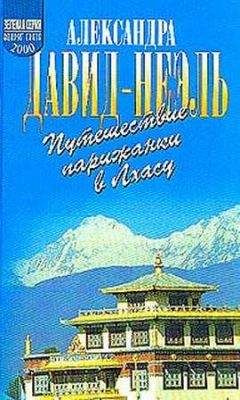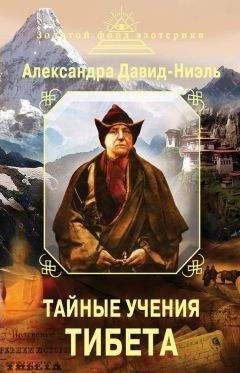Я уже прожила в общежитии «Высшей Мудрости» чуть больше месяца, как вдруг однажды заместительница председателя общества подошла ко мне после завтрака.
— У меня для вас новость, — сказала она. — Среди наших гостей находится ваш соотечественник, художник. Он уезжал в Шотландию на этюды, но сегодня вечером возвращается. Завтра утром вы его увидите.
— Я буду рада с ним познакомиться, — ответила я.
У меня сразу возник вопрос; чем может заниматься художник, тем более француз, в «Высшей Мудрости»? И какого рода картины он пишет? Наверняка ангелов, вроде тех, собирающих ракушки, на которых я смотрю каждый вечер, лежа в постели. Скорее всего, это какой-нибудь одержимый своими идеями старик, немного не в себе.
Мой прогноз оказался неверным. На следующее утро, когда я вошла в столовую, заместительница председателя подвела ко мне элегантного молодого человека.
— Господин Жак Вильмен, парижский художник, — представила она мне его.
Как только мой соотечественник открыл рот, я поняла, что он, как принято говорить, «из приличной семьи» и, очевидно, получил первоклассное образование. Оказавшись за столом довольно далеко друг от друга, мы договорились после завтрака побеседовать в галерее. Это помещение представляло собой длинный остекленный переход, тянувшийся вдоль одной из стен здания и служивший залом для собраний, так как в библиотеке разговаривать запрещалось.
Господин Вильмен поведал мне, что он — пейзажист, учащийся Школы изящных искусств, после чего принялся пространно рассуждать о пейзажной живописи и ее восприятии, точнее о постижении ее тайной и сокровенной сущности, совершенно отличной от той, что видится непосвященному человеку.
Будучи полным профаном в области живописи, я проявляла гораздо больше интереса к личности моего собеседника, нежели к рассказу о его работах. Совершенно непохожий на обыкновенного мазилу, он производил впечатление джентльмена в полном смысле слова, как это понимают англичане. Трудно было вообразить, что он принимает участие в буйных и странных забавах «Бала четырех искусств», о которых я знала, разумеется, лишь понаслышке.
В последующие дни я присматривалась к своему новому знакомому. Он, с его мечтательным и в высшей степени сосредоточенным видом, определенно все меньше и меньше напоминал мне молодого парижского художника. Свойственные ему задумчивость и сдержанность скорее наводили на мысль, что он собирается стать монахом-кармелитом или картезианцем.
Я осторожно спросила Вильмена о его вероисповедании.
Не католик ли он?
— Нет, — насмешливо ответил он. — Мистицизм католиков — это всего лишь слезливая и напускная сентиментальность: умение плакать. — И продолжил: — А их искусство! Они же заставляют алтари куклами!.. Сравните с полотнами древних мастеров из наших музеев, излучающими веру и настоящую духовность, не то что нынешняя набожная пачкотня!.. Иисус представляется мне просветленным пророком в пыльных лохмотьях, бродящим по дорогам Галилеи, а у них он изображается в белоснежной, волочащейся по земле тоге, с искусно причесанными длинными локонами, словно у какой-нибудь модницы времен Луи-Филиппа!.. Они ничего не поняли! Иисус жил будто во сне... говорил нелепые, противоречащие всякому здравому смыслу вещи. Бог не «кормит» птиц, многие из них гибнут зимой от голода и холода... как и многие люди. И не кроткие наследуют землю, а сильные и жестокие...
— Очевидно, и небо тоже, — тихо проговорила я, а затем продекламировала: «...Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его»[13].
— Это цитата? — поинтересовался молодой художник. — Откуда?
— Из Евангелия от святого Матфея.
— А! Читаете Библию. Вы протестантка?
— Из рода гугенотов.
Мой собеседник не стал больше ни о чем спрашивать и продолжил развивать свою мысль.
— Неважно, — заявил он, — ошибался он или нет. (Речь шла об Иисусе.) Он жил будто во сне, но был велик... Они его предали... Что вы об этом думаете? — спросил он.
— Обычное дело, — ответила я. — Всех учителей предавали их так называемые ученики; чувствуя себя не в состоянии подняться на высоту Учителя, они пытались низвести его до своего уровня.
— Знаете ли вы, — спросил художник, — что здесь, в Лондоне, есть люди, которые якобы непосредственно общаются с Иисусом и получают от него указания?
— Вы имеете в виду спиритов?
— Не совсем так. Те, о которых говорю я, мне известны лишь по рассказам, но, если это вас интересует, мы могли бы навести справки.
— Посмотрим.
Пока же я лишь стремилась понять, что рисует этот парижанин, учащийся Школы изящных искусств, замечающий в картинах природы нюансы, ускользающие от глаз простых смертных.
Он охотно согласился показать мне свои картины. Не соизволю ли я зайти к нему в комнату сегодня во второй половине дня? Ему не хотелось приносить картины в галерею, дабы уберечь их от взглядов и критических суждений других обитателей дома.
Однако можно ли девушке, согласно английским нравам, заходить в комнате молодого человека? Я была недостаточно информирована на сей счет и не хотела никого шокировать.
Господин Вильмен меня успокоил. Члены «Высшей Мудрости» являлись людьми широких взглядов и считали светские условности вздором, помыслы их были чисты, как и полагалось истинным оккультистам.
— Впрочем, — предложил в заключение художник, — мы можем оставить дверь незапертой.
Другой мужчина его возраста, вероятно, улыбнулся бы при этих словах, но Вильмен остался невозмутимым, ни одна игривая мысль явно не промелькнула в его голове. Он обладал сознанием безупречного оккультиста.
Моя некомпетентность по части живописи не позволила мне оценить по достоинству мастерство соотечественника, однако мне понравились его картины своим трогательным очарованием. Я пыталась понять, являют ли некоторые детали то, что художник усмотрел за линиями и красками, и постепенно как будто действительно стала замечать, что в одних формах таятся другие. Из рисунка дерева или одной из его ветвей проступала сокрытая или, точнее, параллельная реальность. Дерево вдруг становилось человеком или животным; оно лукаво улыбалось или насмешливо ухмылялось. Это относилось ко всем элементам пейзажа: ручьям, цветам, скалам, горам — все они проявляли ужасающую жизненную двойственность[14].
Одна из картин в особенности завладела моим вниманием. На ней была изображена большая песчаная равнина, поросшая вереском, она простиралась до берега озера, исчезала и затем появлялась вновь, подернутая легкой дымкой, сквозь которую вдали виднелась сиреневая горная вершина, увенчанная снежной шапкой.