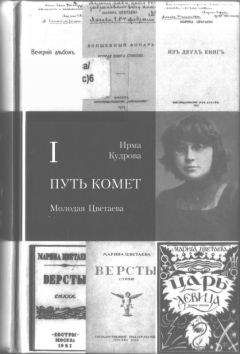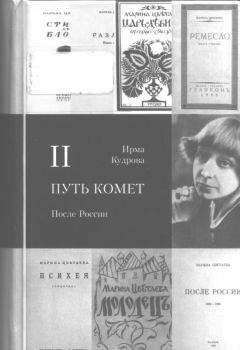В конце лета — 30 августа — стук в дверь цветаевской квартиры… За дверью стоял незнакомый человек в папахе, с лицом, потемневшим от южного загара.
— Вы — Марина Ивановна Цветаева?
— Я.
— Ленин убит!
— О!!
— Я к вам с Дону…
Так наконец дошла до Марины весть о том, что муж ее жив. Остался в живых и вождь пролетарской революции — в тот день, когда Фанни Каплан стреляла в него на заводском митинге.
В ответ на это покушение советская республика объявила красный террор.
В сентябре московская газета «Вечерние известия» сообщила гражданам о формировании Президиумом Московского Совета специального поезда, который должен был привезти в Москву хлеб из Тамбовской губернии. Весь собранный хлеб, говорилось в сообщении, «пойдет на обеспечение классового пайка рабочих города Москвы».
«Классовый паек» был не для Цветаевой. Голод уже становился реальностью. И Марина отважилась предпринять поездку в деревню, чтобы запастись на осень и зиму хоть какими-то продуктами. Кто-то помог ей достать пропуск для проезда по железной дороге. Возможно, это была Маргарита Сабашникова, потому что на липовом командировочном удостоверении, выданном Марине, значилась печать отдела изобразительного искусства Наркомпроса; гражданка Цветаева, сказано было там, едет изучать кустарные крестьянские вышивки Тамбовской губернии.
Марина везет с собой мыло, спички и десять аршин красивого розового ситца. Вся надежда не на деньги — они давно обесценились, — а на прямой товарный обмен.
Уже выехав из Москвы, в поезде, она трагически уясняет себе, что люди, с которыми ей присоветовали ехать вместе, — ни больше ни меньше как реквизиционный красноармейский «продотряд»! И едут они в соответствии с большевистской программой насильственного изъятия продовольственных «излишков» у крестьян.
Сердце Марины холодеет. Но изменить уже ничего нельзя!
На станции Усмань, в чайной, где они обосновываются, Марина оказывается в окружении людей, обвешанных пулеметными лентами и наганами; красноармейцы косо поглядывают на стриженую «барышню» (Марина все еще выглядит моложе своих лет).
Под понуканье хозяйки чайной по утрам она моет посуду, накрывает стол, помогает на кухне; глотая слезы, моет пол.
— Еще лужу подотрите! Да не так! По половицам надо! Разве в Москве у вас другая манера?
Ночью Марина спит на голом полу. А потом идет в деревню. Это тридцать верст пешком по скошенному полю — с корзинами!
Как в Москве с продажей вещей на Смоленском рынке и на Сухаревке, так и теперь с обменом в деревнях — поначалу у нее ничего не получается.
«Нет, нет, ничего нету, и продавать — не продаем и менять — не меняем. Что было — то товарищи отобрали. Дай Бог самим живу остаться.
— Да я же не даром беру и не советскими платить буду. У меня спички, мыло, ситец…
Ситец! Магическое слово! Первая (после змея!) страсть праматери Евы! Загорание глаз, прояснение лбов, тяготение рук. Даже прабабки не отстают, брызги беззубых уст: “ситчику бы! на саван!”
И вот я в удушающем кольце: бабок, прабабок, девок, молодок, подружек, внучек, на коленях перед корзинкой — роюсь. Корзинка крохотная — и вся налицо.
— А мыло духовитое? А простого не будет? А спички почем? А ситец-то ноский будет? Манька, а Манька, тебе бы на кофту! А сколько аршин, ты говоришь? Де-сять? А восьми-то нету!
Щупанье, нюханье, дерганье, глаженье, того и гляди — на зуб возьмут. И вдруг одна прорывается:
— Цвет-то! Цвет-то! Аккурат как Катька на прошлой неделе на юбку брала. Тоже одна из Москвы продавала. Ластик — а как шелк! Таковыми сборочками складными… Маманька, а маманька, взять, что ль? Почем, купчиха, за аршин кладешь?
— Я на деньги не продаю.
— Не продае-ешь? Как же эт так — не продаешь?
— А так, вы же сами знаете, что деньги ничего не стоют. <…>
— Чего ж тебе надо-то?
— Пшена, сала.
— Са-ала? Нет, сала у нас не будет. Какое у нас сало! Сами все всухомятку жрем. Вот медку не хочешь ли?..»
Вернувшись в чайную, Марина еще успевает поздней ночью, при свете луны, потихоньку от всех писать в свою неизменную тетрадочку. Десять лет спустя из этих записей составится очерк «Вольный проезд». В нем — не поздняя реконструкция памяти, а документальное свидетельство тех дней — из той самой тетрадочки, где и живые сценки, и любовно зафиксированный говор деревенских баб, и разговоры красноармейцев, их споры о мужиках, о Боге, о евреях…
Среди прочего Марина запишет в тетрадку собственное ощущение полнейшей отъединенности, отчужденности от всех — кроме тех самых своенравных деревенских бабенок. «Всячески пария… грошовые чулки, нет бриллиантов, для начальника отряда — буржуйка, для красноармейцев — гордая барышня, из бывших. Роднее всех — бабы, с которыми у меня одинаковое пристрастие к янтарю и пестрым юбкам и одинаковая доброта: как колыбель…»
В один из дней в чайной появляется молодой парень с круглым веснушчатым лицом; васильковыми глазами и белокуростью он напоминает Марине Сергея Есенина, а всей же статью и сутью… Стеньку Разина. Того самого, разудалого, себя не знающего, каким он явился в цветаевских стихах прошлой весны.
Выясняется, что парень страстно любит Москву и звон московских колоколов. Для Марины — это уже родство! («И любила же, любила же я первый звон — / Как монашки потекут к обедне…») И вот на крылечке чайной, оставшись вдвоем, парень доверчиво рассказывает свою жизнь, ничего не скрывая: и про солдатские подвиги на войне (два Георгия, спасение полкового знамени), и про участие в ограблении одесского банка. И еще — о своем отце, и еще — о граде Китеже. А Марина читает ему свои стихи — не обнаруживая, правда, авторство. Стихи о той же Москве и о царевиче, и даже свое яростное: «Кровных коней запрягайте в дровни…». И «Царю на Пасху»!
Красноармейцу стихи ужасно нравятся. Настолько, что крупными печатными буквами Марина переписывает их «Стеньке» — на память. На память дарит и книжечку о Москве, которую возила с собой. И перстень — да не какой-нибудь, а с двуглавым орлом! И будто нет никакой вражды, никакого необоримого классового «между», наоборот: сердечная теплота, доверие, сочувствие, ощущение братства…
Если бы не помощь «Стеньки» и его товарищей на вокзале в день отъезда из Усмани — не уехать бы Марине с ее корзинами обратно в Москву! Ей просто было бы не втиснуться в битком набитые вагоны…
К концу 1918 года сюжет лирических отношений с Никодимом Плуцер-Сарна меняется. В записях Цветаевой сохранилось несколько отрывков писем, адресат которых, скорее всего, Никодим. Однако в текстах ни разу не названо имя, и осторожные издатели «Записных книжек» совсем отказались от их атрибуции.