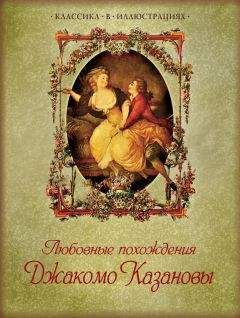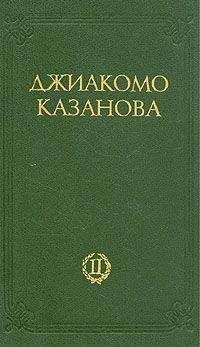После обеда, сидя у камина между Луниным и французской путешественницей, я объявил ему о своих подозрениях, но тот, оскорбившись, тотчас показал, чем превосходит он слабый пол, и, пожелав узнать, смогу ли я остаться равнодушным к его красоте, завладел мною и, решив, что он мне понравился, приступил к решительным действиям, дабы составить свое и мое счастье. И сие неминуемо бы свершилось, если б Ла Ривьер, оскорбившись, что юноша в ее присутствии попирает ее законные права, не вцепилась в него, понуждая отложить сей подвиг до более подходящего случая.
Их стычка меня посмешила, но поелику я не был тут безучастным свидетелем, то почел долгом вмешаться. Я сказал девице, что напрасно лезет она не в свои дела, а Лунин принял это за изъявление моего к нему благорасположения. Он выставил напоказ свои прелести и даже обнажил красивую белую грудь; он принялся подзадоривать девицу сделать то же, она от сего отказалась, обозвав нас п…, на что в ответ мы именовали ее б…, и она нас покинула. Мы с юным россиянином явили друг другу доказательства самой нежной дружбы, кою поклялись хранить вечно.
Лунин-старший, Кревкер и Бомбах, ходившие прогуляться, воротились ввечеру с двумя или тремя приятелями, которые легко утешили француженку, заставив ее забыть дурное наше с ней обхождение.
Бомбах держал банк в фараон до одиннадцати часов, покуда деньги не вышли, и мы сели ужинать. Потом началась великая оргия. Ла Ривьер держала оборону против Бомбаха, Лунина-старшего и двух молодых офицеров, его друзей. Кревкер отправился спать. Лишь мы с моим новым другом вели себя разумно, спокойно наблюдая за поединками, где позы менялись часто и быстро, а любовница бедняги Кревкера стояла насмерть. Оскорбившись, что она интересует нас токмо как зрителей, она время от времени жестоко нас поносила, но мы презрели ее насмешки. Мы напоминали двух добродетельных старцев, снисходительно взирающих на безумства буйной молодости. Расстались мы за час до рассвета.
Я возвращаюсь домой, вхожу в комнату и по чистой случайности увертываюсь от бутылки, которою Заира запустила мне в голову; она задела мне лицо, а если б попала в висок, то и убила бы. Я вижу, как в ярости бросается Заира оземь, колотясь головой об пол; я бегу к ней, насильно хватаю, спрашиваю, что с ней, и, решив, что она лишилась разума, думаю кликать людей. Она утихомиривается, но разражается потоком слез, называя меня душегубом и предателем. Чтоб уличить меня в преступлении, она показывает мне каре из двадцати пяти карт и вынуждает прочесть по фигурам, что всю ночь предавался я распутству. Она показывает мне непотребную девицу, постель, поединки, все, вплоть до моих противоестественных забав. Я ничего такого не вижу, но она воображает, что видит все.
Дав ей вволю наговориться, дабы утишить бешеную ревность, я швырнул в огонь ее треклятую ворожбу и, глядя в глаза, чтоб она почувствовала и гнев мой, и одновременно жалость, что внушала мне она, растолковал ей, что она чуть меня не прикончила, и объявил, что завтра же мы навсегда расстанемся. Я говорю, что и впрямь провел ночь у Бомбаха, где была девка, но открещиваюсь, как то и было, ото всех грехов, что она мне вменяла. После чего, нуждаясь в отдыхе, я раздеваюсь, ложусь и засыпаю, оставив без внимания ее попытки, кои предприняла она, легши рядом, заслужить прощение и уверить в своем раскаянии.
Спустя пять или шесть часов я просыпаюсь и, видя, что она заснула, одеваюсь, раздумывая, как бы избавиться от сей девицы, каковая в очередном приступе гнева весьма даже может меня и прикончить. Но как исполнить сие намерение, видя, как она, раскаявшись, опустившись на колени, отчаянно молит о прощении и жалости и клянется, что отныне всегда будет кроткой, как овечка? Итак, я заключил ее в объятия и выказал несомненное свидетельство своего благорасположения, взяв с нее слово, что не будет раскладывать карты, покуда живет у меня.
Кем же был подлинный Казанова? Он сам называл себя легкомысленным, но храбрым и в основе своей приличным человеком.
Герман Кестен. «Казанова»
Через три дня после сего происшествия я думал ехать в Москву и наполнил ее радостью, уверив, что возьму с собой. Три вещи заставили эту девицу влюбиться в меня. Первая – та, что я частенько возил ее в Екатерингоф повидать родителей и всегда оставлял им рубль, вторая, что сажал ее за стол с гостями, и третья, что поколотил ее три или четыре раза, когда она хотела не дать мне уйти из дому.
Странный этот русский обычай – бить слугу, чтоб выучить его уму-разуму! Слова тут силы не имеют, убеждает только плеть. Слуга, душа у которого рабская, почешет в затылке после порки и решит: «Хозяин меня не прогнал; а коли бьет, значит, любит, я должен верно ему служить».
Когда-то Папанелопуло посмеялся надо мной: в начале жительства моего в Петербурге сказал я, что доволен своим казаком, знающим французский, и, желая снискать его приязнь ласкою, буду токмо словами наставлять его, когда он напьется виноградной водки до умопомрачения.
– Коль не будете его бить, – сказал он, – он однажды сам на вас руку поднимет.
Так со мною и случилось. Однажды, когда он так упился, что не мог мне прислуживать, я грубо изругал его и всего лишь с угрозой замахнулся палкой. Едва лишь взметнулась она вверх, он тотчас кинулся и ухватился за нее, и если б я не повалил его в тот же миг, наверняка бы меня побил. Я немедля его выставил. Нет в мире лучшего слуги, чем россиянин: неутомимый в работе, он спит на пороге господской опочивальни, дабы явиться по первому его зову, всегда послушен, коль провинился – не перечит и не способен на воровство; но он звереет либо дуреет, выпив стакан крепкого зелья, и этот порок присущ всему этому народу. Кучеру частенько приходится ждать всю ночь у ворот в жестокий мороз, лошадей сторожить; он не знает другого средства перетерпеть холод, как выпить водки. Случается, что, выпив стакан-другой, он засыпает на снегу и, бывает, уж более не просыпается. Он замерзает насмерть. Здесь частенько по неосмотрительности отмораживают себе ухо, нос до самой кости, щеку, губу.
Однажды, когда в сухой мороз я приехал на санях в Петергоф, некий русский увидал, что еще немного, и я лишусь уха. Он бросился тереть меня пригоршней снега и не успокоился, пока не спас ушную раковину. На вопрос, как он узнал, что мне грозит беда, он отвечал, что это тотчас видно, поелику помертвелый орган враз белеет. Что меня удивило, и до сих пор кажется невероятным, это что отмороженный орган иногда восстанавливается.
Принц Карл Курляндский уверял меня, что как-то в Сибири отморозил нос, а к лету все прошло. Многие мужики меня также в том уверяли.