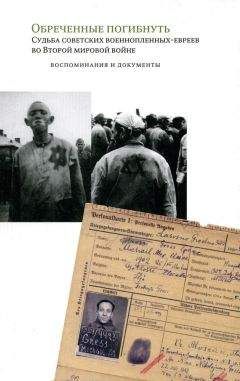Мы прожили в Ламсдорфе 15 дней. 16 октября собрали 2500 военнопленных, погрузили в товарные вагоны, привезли в концентрационный лагерь Гросс-Розен, находившийся тоже в Силезии. Теперь это территория Польши. Лагерь находился недалеко от города Бреслау, теперь это город Вроцлав. Первые 5 дней мы проходили санобработку под открытым небом. Необходимо побрить все волосы на теле и на голове и пройти полтора километра в каменный карьер, где располагалась баня, затем, вернувшись в бараки, ждать 3–5 дней, когда принесут дезинфицированную одежду. Мне повезло. Один из наших ребят смог спрятать и пронести безопасную бритву, и мы не стали ждать очереди, пока дойдем до парикмахера, который брил нас всех, а побрились сами и прошли в первую очередь в баню. За эти пять дней, что длилась процедура, от холода и голода умерло человек 170. Это бритье, сделанное товарищем, помогло мне скрыть свое еврейство (обрезание), так как мне не пришлось проходить эту санобработку перед женщинами.
Наши бараки, как и в основной зоне, состояли из двух секций. В центре у главного входа был туалет и комната старшины барака, которого звали «блокэльтесте». Справа и слева были две секции, в которых первая комната была столовой, а вторая — спальней. В ней стояли двухэтажные кровати в несколько рядов. В каждой секции был старшина, которого звали «штубендист», он занимался уборкой помещений и раздачей еды. Эти должности занимали немцы-заключеные. Они носили полосатую форму и номера, нашитые на груди. В нашей зоне были в основном уголовники, носившие на номере зеленый треугольник, за исключением старшины нашего барака, который носил черный треугольник. Это были «азоциаль-элементе», по-нашему бомжи. В бараке, в котором меня поместили, старшиной был немец с таким же треугольником. Звали его Ганс Распотник. А старшиной нашей зоны был уголовник. Вот он и устроил грабеж нашей еды. В общей зоне буханку хлеба в 1 килограмм делили на четверых, а в нашей зоне в бараки давали такое же количество хлеба, который требовали делить на пятерых.
Я уже хорошо освоил немецкую разговорную речь и обращался с немецкими заключенными, старостами бараков, секций и приходящими по утрам делать проверку немецкими солдатами. И когда я пришел из бани в барак, Ганс Распотник попросил меня быть переводчиком у него. Мы с ним разговорились, он спросил меня, кто я по профессии. Я сказал ему, что хотел стать артистом, поступил в институт, но учиться не дали. А я тоже артист, ответил он мне. Вот недавно, перед арестом, работал как конферансье в концертах американского джаз-оркестра Вайнтрауба Синкопаторса.
— А я этот оркестр слушал в Москве в 1936 г., — ответил я.
Поговорили еще немного, и он дает мне свою тарелку с недоеденным супом, предлагает доесть его. Я взял тарелку, подошел к умывальнику, вылил суп в ведро, тарелку помыл и поставил ему на стол.
— Ты что, не голодный, не хочешь кушать?
— Я голодный, но объедки с барского стола не ем.
И тогда он позвал штубендинста и велел налить мне тарелку супа и дать кусок хлеба. И вот так все четыре месяца, когда мы жили в отдельной зоне, он давал мне вторую порцию и этим спас меня. За эти месяцы из 2500 пленных живыми остались человек 70. Люди погибали и от адского труда в каменном карьере и от голода. Из трех бараков жилыми остались два, а третий назвали ревиром, это по-русски санчасть. Туда поселяли и больных, и доходяг.
В один из вечеров мы увидели страшную картину. Немцы-охранники выводили голого человека и заставляли лечь на снег головой к нашему бараку. Затем выводили следующего, тоже голого и клали его на первого головой к ногам. И продолжали выводить и класть на снег других. Нас увидел в окне один немец, мы быстро легли на пол и накрылись одеялами. Он вбежал в барак, но нас, к счастью, не обнаружил. В это время, в связи с тем, что из того барака, который считался ревиром, часть ребят переселили в наш, нам пришлось потесниться и спать на полу в той комнате, которая была столовой. Утром мы узнали, что произошло ночью. Всех больных и доходяг травили стрихнином, умирающих выводили на улицу и клали вдоль нашего барака на снег. На утренней проверке эсэсовцы нас считали в комнате, а затем открывали окно и считали тех, кто лежал на снегу.
Наш барак находился рядом с оградой. И мы решили попробовать устроить побег. Из подвала нашего барака мы стали копать траншею под ограду. Это примерно метров десять надо было прокопать. Но нам не повезло. Мы опоздали. Когда наша траншея прошла под ограду, ее перенесли метров на 50 и на освободившейся территории начали строить еще три барака.
Прошло четыре месяца, в общем лагере был объявлен сыпнотифозный карантин. Это случилось в начале февраля 1942 г. В нашем среднем бараке соорудили баню, поставили большой бачок с водой и ванную. В общей зоне освободили барак, в котором находились евреи. Их всех куда-то увезли, а нас, человек 35, перевели в общую зону. Здесь жить стало немного лучше, чем в той зоне, где нас содержали. Дело в том, что почти все заключенные — поляки, чехи, французы и другие получали посылки от их Красного Креста и от родственников продуктовые посылки. Эти посылки эсэсовцы урезали и отдавали часть этих продуктов русским заключенным и пленным. Дело в том, что в первый месяц пребывания в концлагере мы заполнили анкеты, которые немцы направили в наш Красный Крест. Через месяц нам объявили, что наш Красный Крест ответил на их запрос, что у них нет военнопленных, а есть только изменники Родины и поэтому они никакой помощи оказывать не будут.
Я работал маляром, рисовал, рисовал на тканях номерные знаки для заключенных. И работал строителем на строящихся бараках. Когда начальству надо было что-то сказать на проверках или при регистрации вновь прибывающих этапов, при заполнении регистрационных карточек, меня использовали, как переводчика. Был один случай. Прибыл этап. Их всех построили и начальник режима, по-немецки рапортфюрер, Гельмут Эшнер, очень свирепый эсэсовец, вызвал меня и просил спросить прибывших, кто из них знает немецкий язык. Это в основном были русские. Я спросил, и один мужчина сказал, что он знает. Тогда Эшнер велит мне спросить его, кто он по национальности. Я спрашиваю, и он отвечает, что еврей. Я говорю ему — зачем признаешься? Он отвечает, что уже признан евреем. Я тогда говорю Эшнеру, что он еврей.
— Ну конечно, кто же в России знает немецкий язык, кроме евреев? — говорит он.
И тогда я ему говорю:
— Герр рапортфюрер, а я что — тоже еврей?
— Молчи, старая свинья («альте зау»), это мы тебя здесь научили!..
Вот так я подтвердил свое нееврейское происхождение.
Народ в лагере был разношерстный. Вместе с военнопленными, попавшими в лагерь за побег из лагерей военнопленных, были и бендеровцы, и польские националисты, и бывшие полицейские, жандармы, старосты, власовцы, которых немцы посадили за то, что они слишком заботились о «своем животе», т. е. воровали. Естественно, что эти люди ничего общего с нами не имели и многие из них становились провокаторами. Их и приходилось опасаться. Привыкнув к легкой жизни, они и в лагере начали терроризировать слабых узников. Отнимали у них хлеб, табак, другие вещи. Не имея другой возможности их наказать за это, но и за прошлые делишки и я и другие военнопленные били их за эти «фокусы». Так и отучили их.