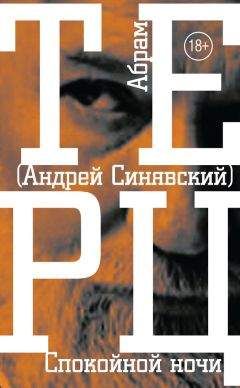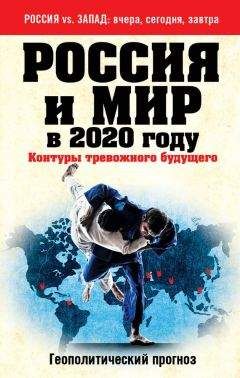типичное для «нашего межеумочного времени», он говорит о том, что научная фантастика – «обычный конформизм, приспособление к большинству, к господствующему сознанию» [Терц 1998: 74]. При всей своей преданности возрождающей и созидательной силе революции, Синявский в достаточной мере сохранял элитарность, противоречащую окружению, – решительно литературную элитарность, так что вздох Проферансова: «жаль, большевики извели на Руси дворянство…» [Терц 1998: 77] – это сожаление по ушедшему литературному, а не социальному величию [239].
Если Проферансов неоднозначный писатель и не такой неисправимый злодей, каким его считает Бальзанов, то как быть с самим Бальзановым? Изображая соперничество между двумя главными героями (его альтер эго, писателем и литературным критиком), Синявский, кажется, предполагает, что эти двое, в конце концов, не могут быть даже отдельными личностями. Бальзанов, не меньше, чем Колдун, не уживается с обществом, что роднит его с Синявским [Терц 1998: 129] [240].
Как и Синявский, Бальзанов любит «работать на снижениях», а в его рассуждениях о Кошкином доме «уже чувствуется рука Иноземцева». Более того, фразу Синявского «бедные, бедные люди» (седьмая глава) повторяет Иноземцев, полагая, что Синявский тоже является одним из его воплощений, частью продолжающейся линии. Это подтверждается тем, что в конце романа, вопреки всем ожиданиям, протеже Бальзанова Андрюша выражает надежду, что однажды он станет писателем, поскольку тень (проферансовская?) скользит по его лицу. Манящий зов волшебным образом прозвучал и в семье Синявских: его сын Егор, получивший математическое образование, теперь, в свою очередь, стал писателем [241].
Разделение писателя и критика не так очевидно, как кажется, а их творческий синтез подтверждается в единственно значимой для обоих сфере, а именно в литературе. При всем том, что он ведет битву против писателей и Колдуна, Бальзанов говорит: «литература мой единственный дом» [Терц 1998: 103]. И он, и Проферансов ищут убежище, хотя и по-разному, в Кошкином доме.
Тематический и символический центр романа – точка, где сходятся факт и вымысел, автобиография и басня, колдун и детектив, писатель и литературовед. Номинально действие происходит в Москве, но с таким же успехом оно могло переместиться туда из парижского пригорода Фонтене-о-Роз. Говорят же, что у Москвы «двойное дно», и не одно; тогда это дом, который существует одновременно в нескольких параллельных измерениях, временная и пространственная связка между различными ипостасями Синявского.
Фантастическое здание романа Терца представляет собой практически точное изображение дома Синявских на улице Бориса Вильде, с его потускневшим великолепием, блестящим литературным прошлым (тут некогда жил Гюисманс [242]) и романтическим запущенным садом, не говоря уже о коте Каспаре Хаузере и собаке Матильде. Замкнутый мир, в который Синявский ушел, дабы избежать превратностей литературы и политики, – это и крепость, и святилище, посвященное письму и книгоизданию, литературе и искусству, равно как и обиталище его семьи. Эта часть его жизни вплетается в «Кошкин дом» в виде друзей и суррогатных родных Бальзанова: Насти-переплетчицы, ее внебрачного сына Андрея и брата Супера [243], чья квартира оклеена обоями с картинками из русских сказок [Терц 1998: 61–62]. Для Бальзанова в его раздрае это островок здравого смысла и поддержки, когда он больше всего в растерянности, а он, в свою очередь, выступает в роли отца для Андрея.
«Кошкин дом» – это более экзотическая и более загадочная версия парижского дома. Назван роман по одноименному детскому стихотворению известного советского поэта С. Я. Маршака. В этой душещипательной истории о прощении и великодушии рассказывается о том, как заносчивая тетя-кошка не пустила к себе осиротевших котят, которые, когда сгорает ее собственный дом, не помня зла, пожалели ее и взяли к себе жить. «Кошкин дом» – это тоже пристанище для бездомных, последнее прибежище культурного прошлого России, вроде бы ненужного и заброшенного, но живого и дышащего. Здесь сверхъестественное и волшебное обретает свой настоящий дом – с призраками, говорящим телефоном и таинственной лампой, – реликтами ушедшей эпохи, которые только здесь и сохранились. Со своей тишиной, полумраком и прохладой, он – полная противоположность современной Москве, которая шумит, слепит глаз и удушает теплом. Обыгрывая аллитерацию в «острове» и «особняке», автор пишет о «необитаемом особняке», вспоминая легендарный необитаемый остров Робинзона Крузо (этот образ снова и снова повторяется у Синявского, означая и конец долгого пути, и волшебное место волнующих приключений и захватывающих возможностей). Это и сказочный дом, избушка на трех курьих ножках со сказочными лепными узорами. Прибежище и путь отхода, сказка этим не ограничивается. Она не только делает все «более значительным, более реальным», но даже в сталинской России ей суждено служить восстановлению лада и гармонии, справедливости и морали [244].
Сказка также дает один из ключей к головоломке, один из способов ее решения. Обнищавшая Москва постсоветская тоже спасается, как в сказке. Иносказательно описывая последствия гайдаровских экономических реформ, когда несчастным старухам приходится копаться в мусорных баках, чтобы выжить, автор рисует Москву то изможденной, опустившейся старой бомжихой, то молодой девушкой, изменившей старому мужу, но романтически прощенной и принятой назад [245]. Под всей грязью и разочарованием сохраняется ее истинная красота и волшебная природа; нужно только обостренное восприятие, чтобы это осознать.
Такое осознание даруется не Колдуну, а Бальзанову в волшебную зимнюю ночь на грани сказки и мечты. Критик и писатель сближаются, бывший резонер и прагматик вовлечены в волшебный мир воображения. Все готово: «только представь…». Время очень важно: канун Нового года, последние часы между старым и новым годом, когда законы природы приостановились и может случиться что угодно. Идет снег, а для Синявского это всегда означает перемены, «<…> идет как бы с того света, и город на наших глазах превращается в волшебное царство», «вроде Китежа», «как в Большом театре, в опере “Евгений Онегин”» [Терц 1998: 130]. Москва сравнивается с мистическим градом Китежем, оперной сценой; аллюзии литературные, театральные и музыкальные переплетаются, и для Бальзанова наступает момент прозрения, когда он провидит истинную сущность Москвы и всей России, которая – в их культурном наследии.
Здесь писатель находит свой дом и обретает новую личность, не убивая никого («я человек хороший»), но благодаря любви и скачку воображения. Пастернак сливается со сказкой: старик-писатель боится перейти оживленную московскую улицу, потом внезапно взмахивает крыльями, как бабочка, и тут и фантазия, и литературные намеки («снег идет», «перекрестка поворот», «жизнь прожить – не поле перейти») [Терц 1998: 66]. Встретив красивую девушку Юлию Сергеевну (которая читает сказки Андерсена [246]), он влюбляется и, не желая быть в ее глазах стариком, делает еще один дерзкий прыжок, на этот раз меняя свой почерк. Внезапно он пишет себе новую