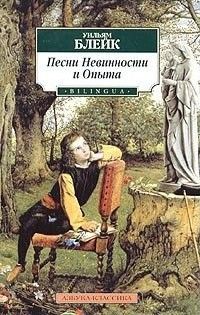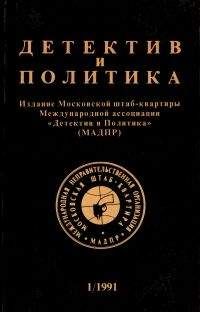разведслужб, но он это отрицал.
Здесь весьма интернациональное сообщество, много людей из — как там его? — Туркестана, Таджикистана. И у меня очень хорошие отношения с соседями, потому что я каждый день здесь гуляю, дважды в день, по утрам и вечерам, по этой дороге. Туда-сюда. Ида считает, и она права, что мне нужно двигаться, а не засиживаться подолгу. Хорошая ли погода, плохая — на это мы внимания не обращаем. И песик с нами выходит, тоже важный член семьи [965].
Я спросил, как зовут собаку. Блейк неловко усмехнулся, а потом сказал: «Подождите… Потом скажу» [966]. Разумеется, я не мог задерживать его дольше. Мы проговорили уже пару часов. Голос его слабел. Я спросил, можно ли сделать пару фотографий с ним в саду.
Блейк: Хорошо, конечно-конечно. Ну, что вы теперь думаете? [Смеется.] Вы потрясены всем, что я вам рассказал, или вы все это заранее знали, или…
Я: Ну, я…
Блейк: Ну, по крайней мере…
Я: Я ожидал увидеть более трагическую фигуру.
Блейк: А-а-а-а-а-а! Да. Ха-ха-ха! Во мне нет ни капли трагизма.
Я: Нет, вы очень радушны.
Блейк: Ха-ха-ха! Ни капли трагизма, но разве вы этого ожидали?
Я: Да. Вы многое пережили.
Блейк: Да.
Я: Вы принимали очень трудные решения.
Блейк: Да.
Я: Вы пережили труднейшие времена в Берлине, в Корее.
Блейк: Да, это правда. Но так уж сложилось [967].
Я сказал, что впечатлен тем, как он освоился и обрел счастье. Это, наверное, было трудно, заметил я.
Блейк: Трудно, но возможно.
Я: Судя по всему, да.
Блейк [смеется]: С чего вы взяли, что это трудно? Все же зависит исключительно от человека. Одному трудно, другому — нет… Наверное, многие сочтут, что… хм… жизнь, которую я прожил, что я ее не заслужил, но так уж сложилось [968].
Он уже словно инстинктивно взывал к детерминизму.
Хотелось бы мне сказать, что наиболее исчерпывающую и глубокую оценку своей жизни Блейк дал в интервью со мной, но нидерландский журналист Ганс Олинк опередил меня. В 1999 году в конце четырехсерийного радиоинтервью он задал Блейку прекрасный вопрос: «Неужели это все того стоило?» Блейк ответил:
Да, думаю, стоило, на мой взгляд, по двум причинам. Во-первых, потому что я считал — и считаю до сих пор, — что коммунистический эксперимент (а не чем иным он и не был) был необходим. Эксперимент был очень благородный. И окажись он удачным, человечество совершило бы огромный скачок…
И я ни капли не сожалею, что посвятил этому жизнь — или значительную часть своей жизни. И не жалею, что из-за этого прожил — должен сказать — интересную жизнь. Я за это благодарен. И [благодарен] за то, что на своем пути я столкнулся и сблизился с очень интересными, исключительными людьми. Такими, как Маклин, Филби, как те, кто помог мне бежать, многие другие, с которыми я познакомился тут и даже в тюрьме. Я с нежностью вспоминаю об этих людях и о многих совершенно исключительных ситуациях.
Но, разумеется, я испытываю и чувство вины. В первую очередь по отношению к своей семье, жене, детям — хотя они уже меня простили; к матери и сестрам, которые столкнулись с массой трудностей из-за… хм… моих поступков. И конечно же, в некоторой степени раскаиваюсь и признаю свою вину перед моими коллегами в английской службе и другими людьми, которые мне доверяли и которых я подвел. И от этого раскаяния мне никуда не деться. Но, с другой стороны, как я говорю, по-моему, я сделал это ради чего-то, что, возможно, было оправдано в истории человечества и — пусть и причинило великое множество страданий — возможно, стало уроком, благодаря которому человечество многое узнало, и, быть может, спустя столетия окажется, что все было не зря [969].
Ни в интервью Олинку, ни в другом контексте Блейк ни разу не выражал сожаления об агентах, которых он предал, по крайней мере не говорил об этом открыто. Сауэр считает, что после того как Блейк разочаровался сначала в коммунизме, а потом в путинизме, он «стал испытывать еще бóльшие угрызения совести из-за того, какую роль он сыграл как шпион, но и дистанцироваться от нее он уже никак не мог» [970].
Я задал уже все свои вопросы. Слепнущий старичок взял свою трость, поднялся с дивана и вышел в залитый солнцем сад, где я сделал несколько очень неудачных снимков с ним, Идой и его собакой (которую, как оказалось, звали Люша). Пока Блейк довольно позировал, он предавался воспоминаниям и ради Иды перешел на английский язык.
Блейк: Моему сыну [Мише] было два года, когда мы сюда приехали. Сперва мы проводили здесь лето, а потом постепенно стали приезжать и зимой, потому что любим кататься на лыжах по лесу, ну и в итоге перебрались сюда насовсем, а сын живет в нашей московской квартире. Вот как все сложилось, постепенно. Все в жизни происходит постепенно.
Я: Вы говорите по-английски с нидерландским акцентом.
Блейк: Да, так и есть. [Смеется.] Не могу — да и не стану — это отрицать [971].
Однажды его прах развеют в лесу рядом с дачей. Блейк сказал:
Я вам это объясню очень просто: я надеюсь. Я не верю в жизнь после смерти. Когда мы умираем, наступает конец всего, а значит, нет ни ада, ни рая, ни воздаяния, ни кары, ничего нет. Нас уже просто нет. Как трава, как листья, которые осыпаются с деревьев, гниют и просто исчезают… Вот во что я действительно верю [972].
Но наверняка, спросил я, его ждет какая-то жизнь после смерти, ведь он историческая фигура. Блейк ответил: «Я об этом не думаю. Потому что никто не знает, как будет развиваться история и как все сложится. Нет, таких мыслей у меня нет. Меня это не волнует» [973].
Мы закончили. В считаные минуты в саду комары не оставили от меня живого места. Порой летом, заметил Блейк, комаров бывает столько, что приходится укутываться, как зимой. Но сегодня все обошлось, как он сказал. «Может, им не по вкусу моя кровь» [974].
В те выходные по всей Москве шли антипутинские протесты, и, даже не называя имени президента, Блейк предупредил меня, что дорога в аэропорт из-за этого может занять больше времени.
Я спросил, не прислать ли ему из Европы что-то голландское. Он усмехнулся: «И как вы это отправите? Дело довольно непростое» [975]. Но, будь это