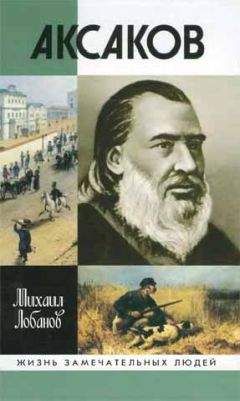В сохранившейся рукописи «Воспоминаний» имеется черновая редакция этого эпизода, более подробная и в фактическом отношении несколько отличающаяся от беловой. Приводим этот текст:
«За несколько дней до возвращения моего с Григорием Ивановичем из Аксакова в Казань, когда в гимназии собрались уже почти все ученики, больничный надзиратель Смирнов обидел ругательными словами и, кажется, ударил одного из лучших казенных воспитанников Александра Княжевича. Старший брат его Дмитрий, который во всех отношениях считался первым учеником, уже шестнадцатилетний, чрезвычайно пылкий молодой человек и самый нежный брат, горячо любимый всеми, вышел из себя от такой обиды и, подкрепленный общим сочувствием и содействием товарищей, предводительствуя толпою гимназистов, а их было около 80 человек, отправился в больницу, взял силою, но без всякой обиды, под арест больничного надзирателя и запер его в залу Совета. Потом написал письмо с изложением обстоятельств дела от себя и от имени всех старших воспитанников, прося, чтоб надзиратель Смирнов в пример другим был отставлен от своей должности, и отправил это письмо за подписью учеников высшего класса с дежурным надзирателем к директору. Инспектора не было дома; когда он воротился и узнал всю историю, то, казалось, принял в ней живое участие и успокоил разгоряченную молодежь обещанием, что начальство выгонит Смирнова. Смело утверждаю, что, если б Упадышевский служил тогда надзирателем, все дело приняло бы совсем другой и благоприятный оборот. Но, к несчастью, за несколько месяцев Упадышевский оставил гимназию по болезни. Через час воротился от директора дежурный надзиратель с письменным приказанием инспектору: «Больничного надзирателя выпустить, а воспитанников — обоих Княжевичей — посадить в карцер; всем же, кто вздумает противиться, объявить, что они будут отданы в солдаты».
Нетрудно себе представить, какая буря закипела в сердцах молодых людей! Собралось шумное вече, и на нем было положено и потом объявлено инспектору и надзирателям, что Смирнов не будет выпущен до тех пор, покуда Совет гимназии не составит законного определения об его отставке, и что покуда этого не сделают, воспитанники не станут признавать никакого начальства, не станут ходить учиться в классы и просят г-на инспектора и господ надзирателей оставить гимназию и не вступаться в их дело, обещая в то же время, что будут вести себя тихо и прилично. Инспектор струсил и ушел с двумя надзирателями, а двое остальных, любимые учениками, по собственному желанию получили позволение остаться при своих местах, с тем чтобы ни во что не вмешиваться. Головы всех воспитанников горели; они выбрали главным своим начальником Дмитрия Княжевича и потом несколько человек старших, которым обещали повиноваться; ходили ужинать в большом порядке, обыкновенным фрунтом, но, опасаясь, чтоб их не схватили как-нибудь ночью, они натаскали скамеек, приперли ими двери и окна в своих спальнях, а вместо оружия собрали все кочерги, половые щетки и запаслись множеством поленьев, швырковых дров, которые в большом количестве стояли на дворе; для большей же предосторожности расставили часовых, которые сменялись каждые два часа.
Глупый директор, услыша такие вести, совершенно потерялся. На другой день он присылал к возмутившимся ученикам для переговоров, увещаний и соглашений то одного, то другого учителя, то инспектора. Воспитанники принимали парламентеров очень почтительно и без всякого шума, но с твердостью объявляли, что до тех пор не выйдут в обыкновенный порядок и не выпустят Смирнова из-под ареста, покуда не соберется конференция и покуда не отставят виноватого от должности. На третий день собрался Совет и приехал директор. Залу Совета отперли; на столе лежала новая просьба, еще более почтительная и покорная, также за подписанием старшего класса; съехались присутствующие члены; ввели Смирнова и, когда он после допроса вышел из присутствия, взяли его опять под надзор. Потом все три класса собрались в соседственной зале, стали во фрунте и ожидали решения Совета. Старший учитель Яковкин и учитель российской словесности Левицкий, очень любимый, приходили уговаривать воспитанников, чтобы они освободили Смирнова и разошлись по своим местам, предоставя дело решению Совета и уверяя, что виновный непременно будет отставлен и что в случае их упорства они жестоко пострадают. Но воспитанники не поверили им и отвечали, что они готовы погибнуть все, только бы Смирнов был отставлен от службы актом. Долго сидела конференция; наконец, разъехались, ничего не сделав; больничного надзирателя опять заперли, и воспитанники пошли обедать позже двумя часами обыкновенного. Ночь провели точно так же, как и вчерашнюю. На третий день опять съехалась конференция; но как скоро собралась она в полном своем составе, возмутившееся юношество целою толпою ввалило в Совет, настоятельно требуя исполнения своей просьбы. Все струсили и потеряли голову, директор больше всех; написали и подписали определение,[34] в котором было сказано, что больничный надзиратель Смирнов за дерзкий и оскорбительный поступок с казенным воспитанником Княжевичем 2-м отставляется от службы, о чем и представить на утверждение высшему начальству. Определение было прочитано самим Дмитрием Княжевичем и тут же объявлено Смирнову. В ту же минуту все пришло в свой обыкновенный порядок, начались классы, и учебная жизнь спокойно потекла по своей обычной колее. Скоро все успокоились и подумали, что дело не будет иметь никаких дальнейших последствий; но через неделю, во время обеда, вдруг взошла в залу рота солдат с ружьями и штыками; вслед за нею вошел губернатор и директор…» Далее следует текст, в основном совпадающий с текстом окончательной редакции (Л. Б., ф. Аксакова, 1/8 лл., 25 об. — 28).
Возникает, естественно, вопрос: чем вызывалась необходимость замены одной редакции другой? К сожалению, с полной достоверностью ответить на этот вопрос пока не представляется возможным. Но обращает на себя внимание следующее. В первой редакции бунт гимназистов носил, несомненно, более серьезный характер, чем в последующей. Причем этот эпизод написан здесь с явным беллетристическим нажимом и, кроме того, содержит в себе ряд недостоверных деталей. Например, главным виновником инцидента в этой первоначальной редакции изображается не «квартермистр», а больничный надзиратель; не соответствует истине и история с арестом надзирателя и многое другое (ср. с указан. выше книгой Д. Нагуевского). Все это противоречило методу писательской работы Аксакова, заявлявшего, что у него «нет свободного творчества», что он не владеет «даром чистого вымысла» и может писать, «только стоя на почве действительности, идя за нитью истинного события» (ИРЛИ, ф. 569, д. № 108, лл. 2 об. — 3), что никогда ничего не выходило из его попыток «писать вымышленное происшествие и вымышленных людей» (Л. Б., ф. Чижова, 1/16) — Аксаков, вероятно, потому и отверг черновую редакцию, что почувствовал, сколь далеко он отступил в ней от исторической истины и изменил тому художественному принципу, которому следовал во всех своих произведениях.