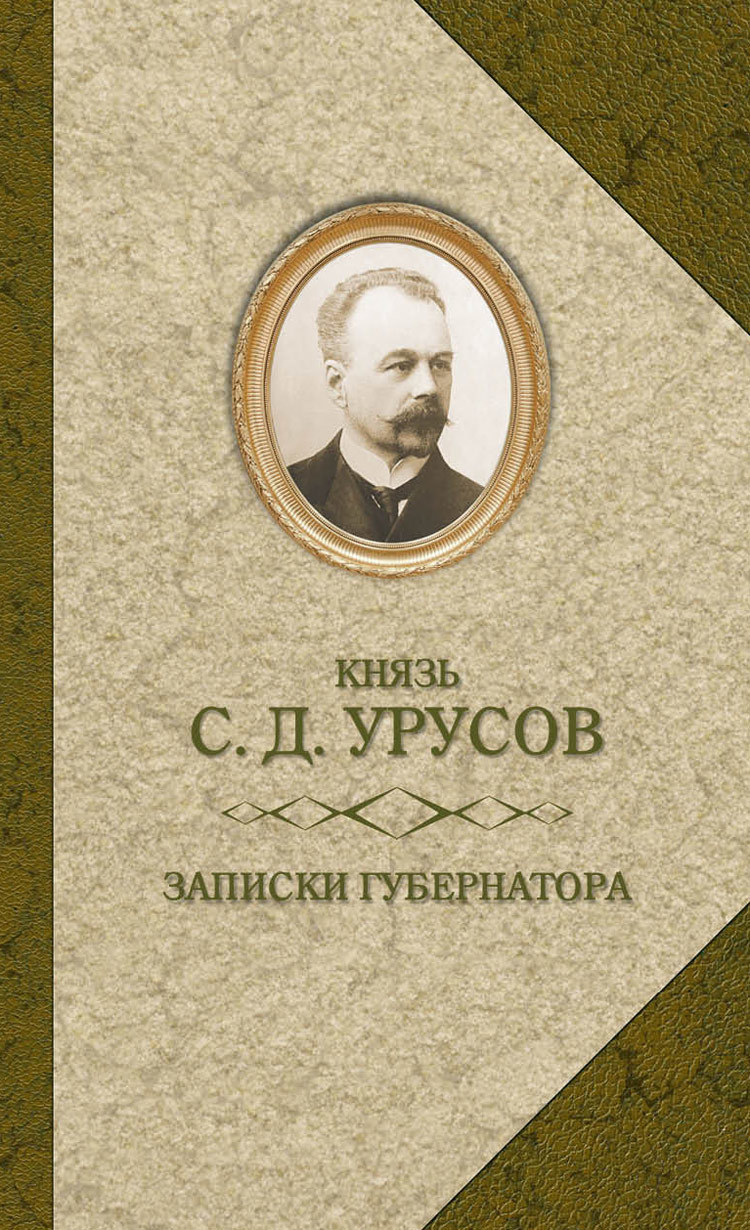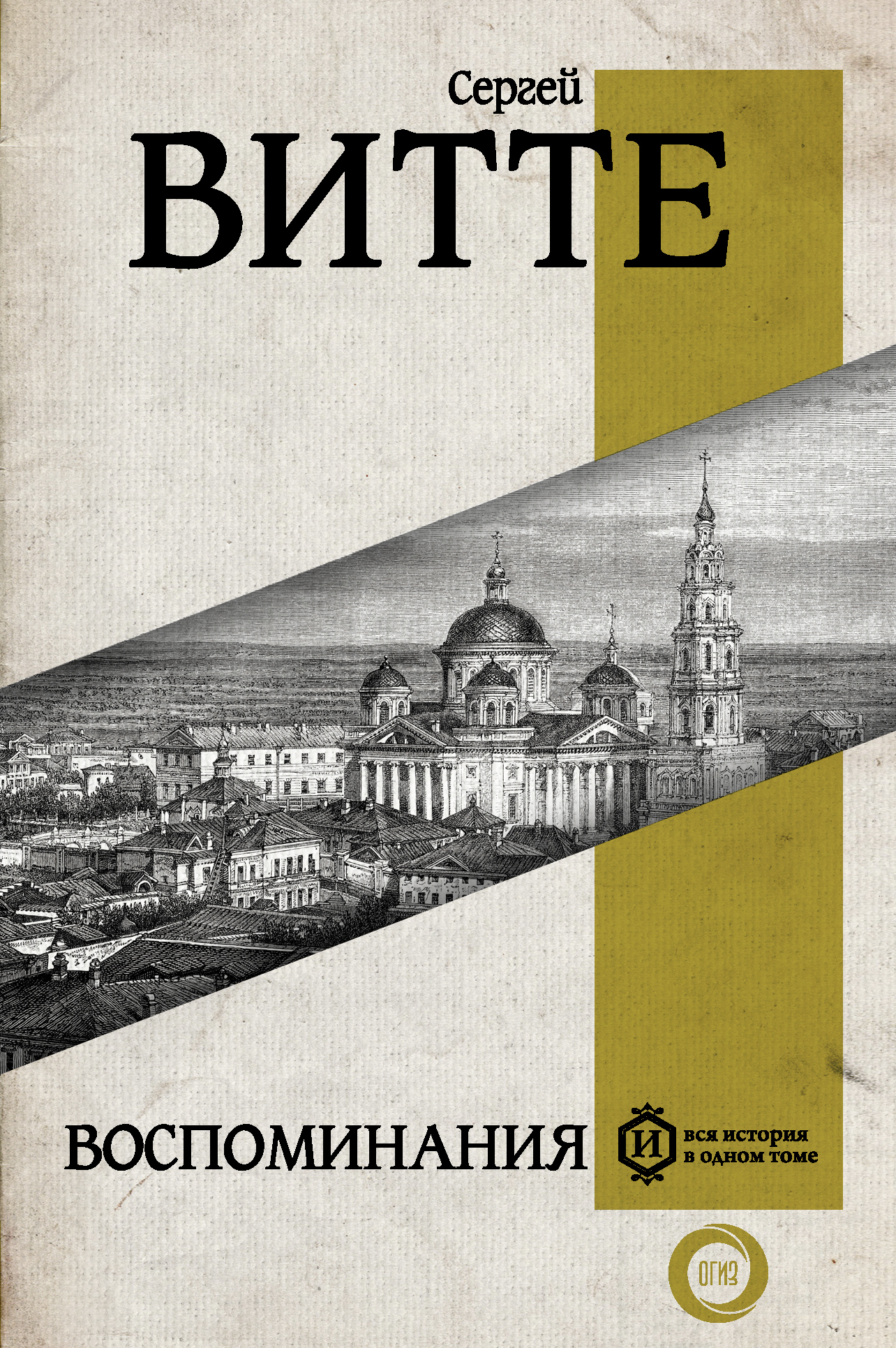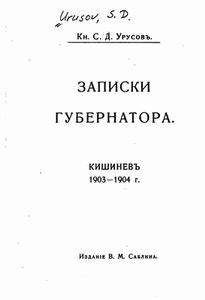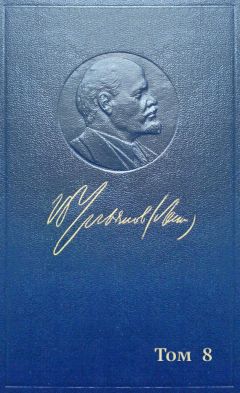дает права заключать о религиозной нетерпимости русского народа. С другой стороны, не приходится наблюдать в русской православной массе инстинктивного страха перед еврейством и той безотчетной ненависти, которая порождается сознанием грядущего, неизбежного торжества чуждой и враждебной силы. Усилившуюся за последнее время агитацию против евреев, идущую сверху вниз, от центра к периферии, из дворцов к хижинам, население хижин туго воспринимает и недоверчиво слушает проповедь ненависти и грозные предостережения своих официальных печальников и наемных заступников. Можно, пожалуй, признать, что наш народ не склонен к «пустому фразерству», что равноправие евреев, как идея, столь же чуждо ему, как, например, женское равноправие, по поводу которого в первой Думе раздавались недоумевающие крестьянские голоса. Возможно даже допустить, что овладевшая теперь помыслами крестьян аграрная реформа заставляет кое-кого из них относиться с некоторым вниманием к тем голосам, которые стараются внушить земледельческому классу мысль о стремлении евреев произвести общий дележ, чтобы захватить при этом лучшие куски. Но последнее явление – преходящего характера, и я склонен думать, что проект общего гражданского равноправия не вызовет в России народного осуждения только за то, что им предусмотрено, между прочим, освобождение евреев от наложенных на них законом ограничений.
Для меня лично еврейский вопрос выяснился с той поры, как я стал смотреть на него с точки зрения интересов и нравственных требований русского народа. Постараюсь вкратце пояснить свою мысль.
Один из ближайших сотрудников моих по Бессарабии, старший советник губернского правления фон Р., человек очень добродушного характера, любил иногда рассказывать о своей находчивости и о проявленных им на прежней службе полицейских талантах. Лет 20 тому назад, он из драгунского полка перешел на должность полицмейстера города Измаила и однажды обязан был присутствовать, в качестве распорядителя, при казни преступника еврея. Осужденный провисел положенное число минут и был снят с виселицы, после чего врач должен был констатировать его смерть. Но оказалось, что забыли остричь длинную, густую бороду еврея и, благодаря этому обстоятельству, затянувшаяся петля, лишив его сознания, не причинила смерти. «Представьте себе мое положение рассказывал Р., – доктор мне говорит, что жид через 5 минуть очнется. Как поступить? Второй раз повесить его я считал неудобным, а между тем смертный приговор надо было исполнить». – «Что же вы сделали?» спросил я, и получил памятный мне ответ: «Велел скорее закопать, пока он не очнулся».
Р. признавал, что живого христианина он не решился бы зарыть в землю, но случай с закопанным евреем его не смущал. Он был уверен в том, что поступил остроумно и находчиво.
Другой характерный случай произошел в Москве, в недавнее сравнительно время. Молодая еврейка желала поступить на курсы, кажется, стенографии, но полиция постоянно высылала ее из города, как не имеющую права жительства в столицах. Отчаявшись в получении законного разрешения, молодая девушка прибегла к хитрости и взяла удостоверение на занятие тем промыслом, которым молодым еврейкам можно везде заниматься. Но недремлющего ока полицейской власти ей усыпить не удалось: ее подвергли медицинскому освидетельствованию, доказали, что она своим промыслом не занимается, и выслали окончательно на родину.
В обоих описанных фактах, безусловно достоверных, меня смущала не столько судьба жертв особого отношения русских чиновников к евреям, сколько тот умственный процесс, путем которого наш средний чиновник полусознательно усвоил привычку применять к бесправному еврею особые нравственные нормы. Не столько для евреев, сколько для России, вредно, по моему мнению, то притупление нравственного чувства, которое создалось у исполнителей, стоящих на страже законов о евреях, и которое безусловно считается признаком надежного слуги и верного подданного.
Содействует ли укреплению военной доблести поощряемая военным начальством противоеврейская пропаганда при помощи всем известных брошюр и воззваний и отвечает ли достоинству русского войска поведение офицеров и солдат во время еврейских погромов? И не будет ли правильно назвать разложением христианского духа ту изуверскую проповедь ненависти к евреям, которую духовное начальство допускает на церковной кафедре только потому, что гражданская власть поставила евреев как бы вне закона?
Поэтому законодательное признание еврейского равноправия меня нисколько не страшит. Я вижу в нем способ избавиться от развращающих нас приемов борьбы с евреями. Если еврейскому влиянию надо противодействовать, то пусть борьба происходит путем мирного соперничества и естественного развития сил. Я убежден, что русский народ не потеряет при этом ни своих материальных благ, ни своего духовного богатства.
Петербург в январе 1904 г. Объявление войны. Плеве. Совещание по еврейскому вопросу. Совещание губернаторов по поводу проекта реформы крестьянского управления. Перевод мой в Харьков. Князь Святополк-Мирский и назначение мое в Тверь. Отъезд из Кишинева.
В середине января 1904 года я поехал в Петербург для участия в «еврейской» комиссии. Председателем ее был назначен князь И.М. Оболенский, бывший херсонский и затем харьковский губернатор, а в числе членов ее я запомнил: ковенского губернатора Ватаци, виленского – графа Палена, варшавского – Мартынова, могилевского – Клингенберга и московского обер-полицмейстера Трепова. Кроме того, в состав комиссии вошли: директор департамента полиции Лопухин и два херсонских общественных деятеля, вызванные по рекомендации князя Оболенского, – городской голова Соковнин и уездный предводитель дворянства Малаев.
Помню еще несколько членов этой комиссии, состоявшей из 15–20 лиц, но смутно, и потому, во избежание ошибки, не стану о них упоминать.
В день моего приезда произошло событие, в то время лично меня не касавшееся, но впоследствии принесшее мне немало хлопот. Зайдя к Лопухину, я застал его в большом волнении по поводу появившегося в «Правительственном Вестнике» сообщения, согласно которому тверское губернское земство и новоторжское уездное лишались, по высочайшему повелению, выборных управ и получали взамен чиновников по назначению. Столь резкое нарушение законного порядка земского управления, в одном из первых земств России, очень взволновало Лопухина, а то обстоятельство, что министр подготовил этот переворот, вопреки его мнению и совету, чрезвычайно его озадачило.
Зайдя в тот же день к вице-директору департамента общих дел, Арбузову, который всегда производил на меня впечатление очень порядочного и симпатичного человека, я узнал от него, что представленная мной записка по еврейскому вопросу возбудила в министерстве недоумение, и что я вызван для участия в комиссии исключительно по настоянию ее председателя, указавшего на необходимость иметь в числе членов представителей разных мнений. Сам Арбузов говорил со мною по поводу нашей записки с оттенком некоторого уважения к «смелости» ее содержания, а из дальнейших слов его я понял, что от министра внутренних дел я вряд ли выслушаю одобрение высказанным в записке мыслям. Действительно, обращение Плеве со мной, при нашем первом, после моего отъезда в Кишинев,