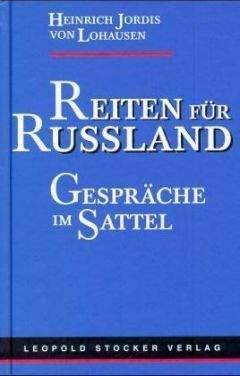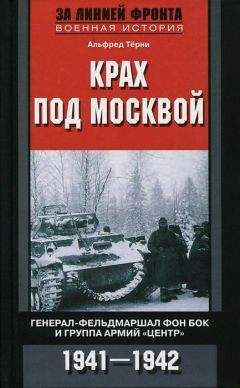Кейзерлинг называл нам самым способным перевоплощаться народом в мире. Наверняка, мы — самые любопытные. В почти всех областях человеческого знания немцы породили больше исследователей, чем кто-либо другой. Больше исследователей, больше эмигрантов и — больше ренегатов, немецкий мировой рекорд. Поход в неизвестное владеет нами сильнее, чем твердость в своем собственном: Преданность всему новому, всему чужому! Иначе нельзя правильно объяснить беспрецедентную трагедию американских немцев. Ничто в лице Америки уже не напоминает о них. Их отказ от самих себя был абсолютным. Мюленберг нашел подражателей. И у его образа действий, если вы хотите его так назвать, был стиль, стиль законченного приспособленчества. Вероятно, он только хотел продемонстрировать свою беспристрастность, свою типично немецкую беспристрастность. Когда-то она была еще достоинством для нашего государства. Мельник у нас действительно мог добиться справедливости даже в конфликте с королем. Где еще такое могло быть? Дома такой образ мыслей был для нас благом, за границей он стал проклятием. Там делает историю не беспристрастность, а исключительно вера в собственное право, в собственную миссию.
Французов в окрестностях Нового Орлеана никогда не было больше нескольких тысяч. Но еще сегодня они говорят по-французски и живут как французы, как будто прочая Америка, кроме чисто рабочих вопросов, их вообще не касается. А в Канаде они являются большой надеждой Франции. У них больше детей, чем у остальных канадцев. И они тоже сохраняют свой язык. Несколько десятилетий еще, вряд ли даже одно столетие, и французы образуют большинство в Канаде. Можно подумать, что они, наконец, добьются реванша за Семилетнюю войну! Они вернут себе Канаду спустя триста лет, и это с помощью одной лишь жизненной стойкости франкоканадских женщин!
— … мягкой силой прекрасного пола! — дополнил скачущий в середине. — Верность по отношению к себе, доверие к собственному потомству, может решить в конечном счете судьбу континентов. Французские дети изучают историю более основательно, чем школьники любой другой страны, причем, кроме античной, они учат почти исключительно свою собственную историю. И из знания истории возникает осознание французами своей миссии. Лишь вера в свое призвание делает нацию.
И если французы говорят о «человечестве», то представляют его себе только как французское, как овивающее Францию.
— Чем же тогда являемся на самом деле мы, немцы? — спросил всадник на пегой лошади, студент теологии на первом семестре. — Кто мы: народ, нация или скопление племен? Ведь «нациями» называют себя только те, кому это необходимо. Нам никогда не было нужно слово «нация». Должны ли его использовать те, которые когда-то были кем-то другим — кельтами, этрусками, иберами или еще кем-то — и теперь должны смотреть на то, чем они стали, что из них сделали римляне: французов, итальянцев, испанцев и так далее. Нам же достаточно быть народом, из первых рук. Зачем нам называться «нацией»? Мы не нуждаемся в этом слове!
— И еще как нуждаемся! — возразил едущий на вороном коне. — Народы только сидят в зрительном зале истории. Нации же стоят на сцене. Если народ становится нацией, он покидает зрительный зал и требует свою роль. В этом различие. У народов есть прошлое, у наций будущее. Народы живут из несколько наружу, нации на несколько туда. Народы еще являются само собой разумеющимися для себя самих. Нации никогда не само собой разумеющиеся для себя. Ежедневно им приходится напоминать об их бытии. Это не игра со словами. Здесь речь идет о действительно различном, можно было почти сказать: о проявлениях различной степени. Нации возникают там, где народ охватывает вера в его избранность. Только осознанная миссия создает нации из народов. Нации знают, чего они хотят, народы только, чего они не хотят, а этого слишком мало.
Должен ли я сказать вам, кто является народом? Баварцы, например, но также и фризы, швабы или саксонцы. Народам достаточно того, что они есть. И такими, как они есть, они и хотят оставаться. В противном случае они могут стать нациями и так же снова прекратить ими быть. Так как нация — это процесс, продвижение. Существуют народы, которые никогда еще не были нациями, или только с частями; возможно, никогда уже и не будут; и есть также такие, которые больше уже не являются нациями. Всегда развитие в нацию обозначает только определенную эпоху в форме проявления народа. Также вряд ли весь народ воплощает нацию, часто только ее меньшинство, элиту. С другой стороны, нации могут охватывать также больше, чем только один единственный народ, как, например, называющие себя сегодня обобщающим словом «британцы» шотландцы и англичане, часто, однако — как в случае Швейцарии — хоть и несколько народов, но только части каждого. Принадлежат ли еще сегодня немецкие швейцарцы к немецкому народу? Разумеется! А к немецкой нации? Без сомнения, нет! У них вместе с франкоязычными швейцарцами и ретороманцами в Граубюндене есть их собственная. Иначе у голландцев! С этнической точки зрения в то время, когда они стали своей собственной нацией, они еще все вместе были немцами. На английском языке их еще сегодня называют «the Dutch», немцы, но теперь, однако, они принадлежат к немцам только лишь по их племени, т. е. по их происхождению.
Освальд Шпенглер также пруссаков называл нацией. Таковой они были семьдесят, вероятно даже еще пятьдесят лет назад. И не только немцы относились к ней, а также не только жители Остэльбии. Как раз многие из самых лучших приезжали туда из самых разных других мест. Но был ли прусский народ? Пожалуй, нет. Нация же это все-таки кое-что иное, необязательно единство происхождения, каковым, как правило, является народ, часто даже не единство расы или языка — подумайте об американцах — но всегда единство сообща пережитого опыта, всегда единство воли. Всегда она — признание, исповедание, всегда современность, часто без какой-либо связи с родителями и предками. То, что ее несет, это родство душ. У народа есть сыновья, есть и неверные сыновья, у нации — приверженцы. Тот, кто не одобряет ее, к ней не принадлежит. Соглашусь: другие народы используют то же слово в другом смысле. Для них считается: государство — это нация! Также мы говорим: «Народы хотят их землю, нации их государства, народы борются за их свободу, нации за их значение в мире».
— Тогда это тоже игра словами! — прервал всадник на рыжей лошади. — Там, где мы говорим «Volk», «народ», французы говорят «ethnie». Характерно для них, что им пришлось воспользоваться греческим словом для этого, так как сказать «Мы — народ!» — так, как мы понимаем эту фразу на немецком языке — едва ли можно сказать по-французски, только: «Мы — нация!» И это не одно и то же. Но они уже тогда, когда пришли римляне, едва ли были одним народом в нашем понимании. Это были галлы, а потом опять франки. Между ними там было только лишь население; и населения знают только приходящую извне силу, навязанное им извне единство, навязанное им государство. Но те, кто захватили для себя это государство, тем не менее, понимают его как сумма всех его граждан: как «la nation», нация во французском смысле. Но там, где мы говорим «нация», у них снова нет выражения для этого — источник недоразумений! К чему это иностранное слово, если, все же, каждый понимает под ним что-то другое? Есть народы, осознающие свое предназначение в большей мере, и есть такие, которые осознают его меньше. Там есть больше, чем только две градации. Зачем тогда называть их по-разному? Ведь для римлян — а это слово взято от них — это означало ровно лишь происхождение, особенность, своеобразие, народный характер. И если наши предки говорили о «Священной Римской империи немецкой нации», они понимали под этим ничего больше, кроме того, что эта империя была немецкого вида и несли ее немцы, что-то подобное тому, как это было представлено уже Тео-дориху Великому. Только якобинцы сделали из «нации» что-то вроде вероучения!