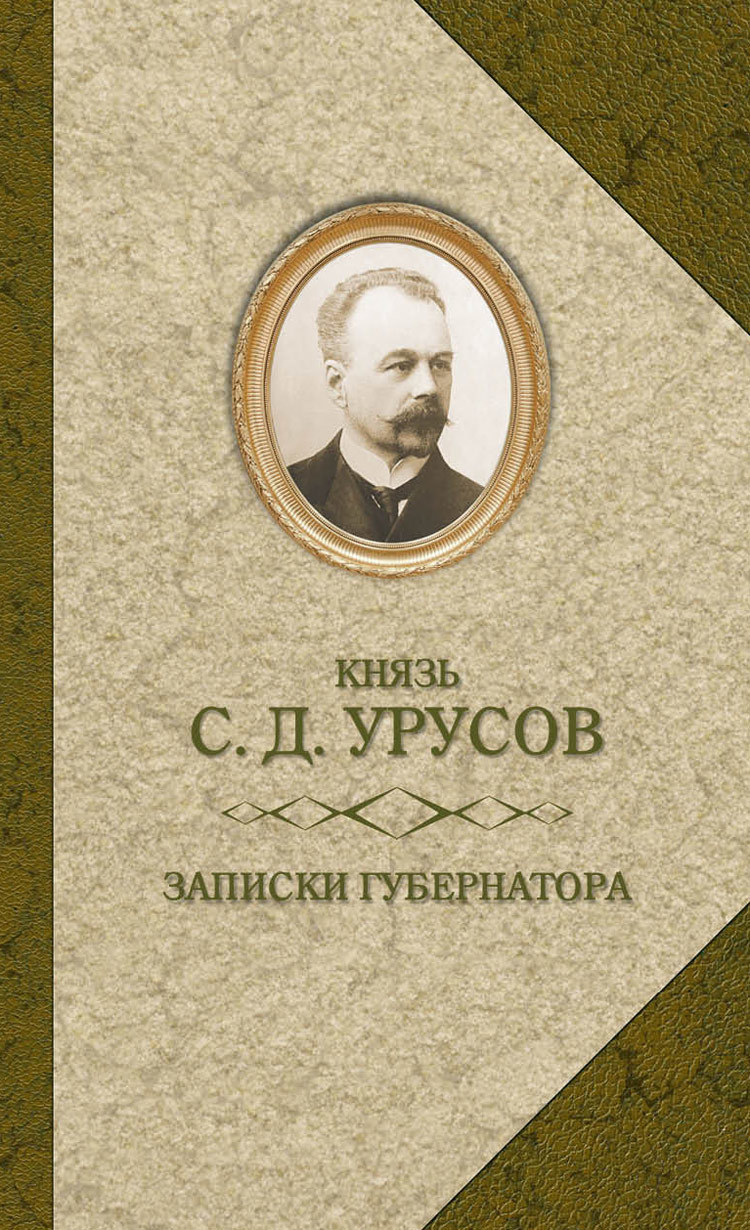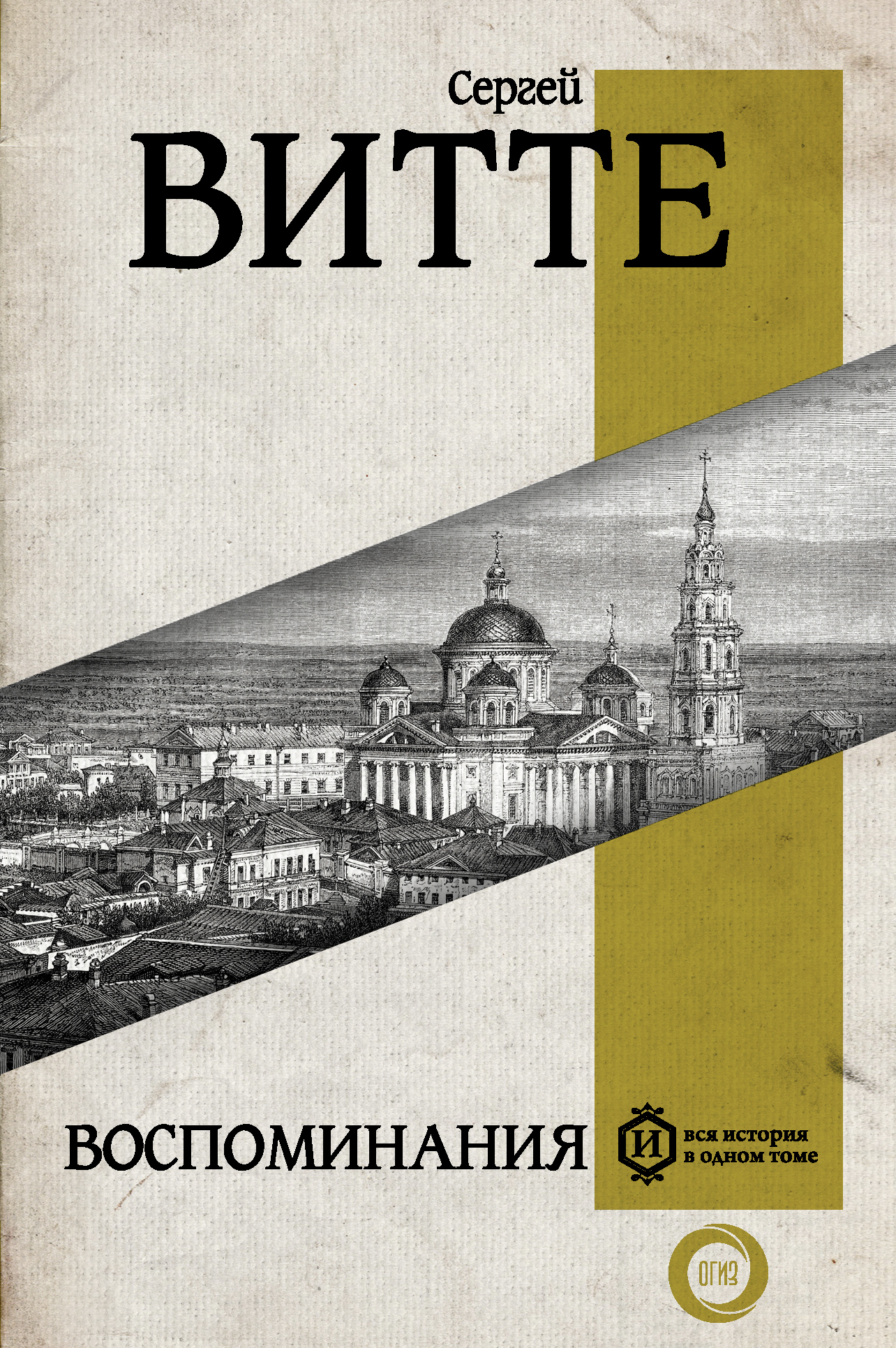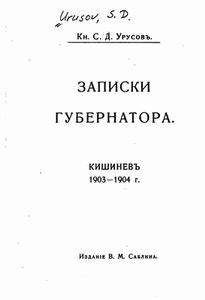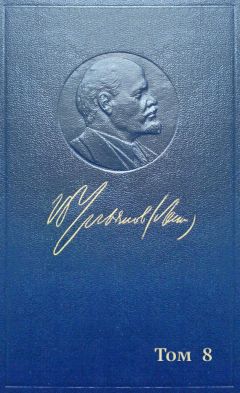свидании, было, по меньшей мере, странное. Можно было, по-видимому, ожидать, что Плеве найдет о чем меня спросить, пожелает что-нибудь и он от меня узнать, но, в действительности, он, сухо со мною поздоровавшись, замолчал и стал смотреть мимо меня, с усталым и равнодушным видом.
Напомнив министру, что я приехал в Петербург по его вызову, и услышав ответ, что порядок занятий в комиссии будет установлен ее председателем, я поднялся с места и ушел, подумав о том, что служащие под непосредственным начальством такого нелюбезного министра вряд ли приятно себя чувствуют.
Дня через два состоялось первое собрание нашей комиссии. Мы познакомились друг с другом, поговорили о посторонних предметах и разошлись по домам.
На другой день, у министра внутренних дел был большой обед, на который все члены комиссии получили приглашение. Любезный хозяин дома очень радушно отнесся к своим гостям, старался устранить всякую принужденность в обращении с ними, был весел и оживлен. Но злополучный бессарабский губернатор все время стоял, в поле зрения Плеве, на известной в физике «слепой точке», Меня министр как бы не видел и, сухо со мною поздоровавшись, не сказал мне в течение всего вечера буквально ни одного слова. Обходя после обеда своих гостей, стоявших с чашками кофе в руках, он усиленно любезничал с моим соседом, спросив его между прочим: «ну, что, готовитесь воевать с евреями?» и затем, скользнув мимо меня, стал, не менее любезно, разговаривать с гостем, стоявшим рядом со мною, по другую сторону.
Демонстрации Плеве мне надоели, и я, на другой день, сказал двум-трем близким ему лицам, что я не намерен больше бывать у министра в качестве гостя, и что, если я получу от него новое приглашение, то отвечу отказом.
Через несколько дней последовало между нами объяснение. Оно имело место во время перерыва многолюдного заседания, о котором следует рассказать несколько подробнее…
Весной 1904 г. предполагалось созвать, во всех губерниях, совещания местных деятелей для предварительного рассмотрения обширного проекта, составленного земским отделом и касавшегося некоторых изменений в порядке крестьянского управления и волостного суда. Не помню в точности объема поставленной нам задачи, но выходило так, что министерство, наметив некоторые частичные исправления положения о сельском состоянии, желало вместе с тем оградить в законодательстве о крестьянах те начала, которые усиленно защищались политикой последних двух царствований, и в особенности сохранить неприкосновенным институт земских начальников. Плеве решил вызвать в Петербурга на январь месяц половину начальников губерний – будущих председателей совещаний, и сговориться с ними о желательном образе их действий. Вторая очередь губернаторов должна была заседать с февраля.
Плеве, Стишинский и Гурко, с несколькими членами совета министров, бывшими губернаторами, и мы, приехавшие из своих губерний в качестве их «хозяев» и сведущих людей, образовали торжественное заседание. Министр произнес вступительную речь, неясную по выводам, но очень хорошо сказанную. Стишинский и Гурко выяснили точнее, в форме докладов, ту задачу, которой нам предстояло заняться. Признавался желательным умелый и осторожный выбор членов губернских совещаний; указывалось на опасность расширения программы и уклонений в сторону от нее; рекомендовалось давать ответы только на поставленные программой вопросы, не стесняя, конечно, свободы мнений, но стараясь ограничить обсуждение известными рамками и т. п. Затем, председатель предложил губернаторам высказаться по поводу выслушанных докладов.
Мне невольно вспомнилось гимназическое время, когда, ожидая вызова к доске, мы опускали глаза и прятались за спины сидящих впереди, чтобы не обратить на себя внимание учителя. Увы, среди моих новых товарищей, не нашлось первого ученика, всегда готового отвечать на вопросы. Все напряженно молчали и Плеве тщетно, с любезной улыбкой, обводил нас ободряющим взором. Не слыша наших голосов, он поговорил некоторое время со своим соседом Стишинским, а затем, потеряв, по-видимому, терпение, произнес – и наверное умышленно – имя и отечество одного из присутствовавших в заседании губернаторов, выражая желание выслушать его мнение, но не глядя при этом на него.
X. X., давно, вследствие глухоты, усвоивший способность понимать обращенные к нему слова только по движению губ собеседника, на этот раз невинно чертил какой-то рисунок, сидя насупротив нашего председателя. Он не обратил никакого внимания на повторенное приглашение Плеве и бросил свое занятие только после нескольких толчков, полученных от соседа. Прошло не мало времени, пока он догадался, в чем дело и, сделав серьезное лицо, высказал, что надо подумать прежде всего о коренниках. Мы все знали, что X. X. владелец старинного конного завода, но все же с недоумением отнеслись к его, по-видимому, несвоевременному, заявлению. Однако, оказалось, что X. X. имел при этом в виду председателей будущих совещательных комисеий, удачный выбор которых должен был, по его мнению, обеспечить успех работ совещаний. Далее мы в наших проектах не пошли, и Плеве поспешил пригласить нас в соседнюю комнату пить чай.
Все время перерыва, продолжавшегося полчаса, министр посвятил разговору со мной, обнаружив видимое желание изгладить впечатление, вынесенное мною из предыдущих наших свиданий. Он заговорил о Кишиневе, подчеркнул свое полное невмешательство в мой образ действий, и на вопрос мой, не слишком ли он в этом раскаивается, с веселым видом и откровенной манерой человека с душой на распашку, признался в несочувствии своем моему поведению по отношению к бессарабским евреям. Из разговора нашего немедленно выяснилось, что Плеве, получая от кого-то сведения из Кишинева, запомнил и поставил мне в вину два факта: похороны Торы и визиты, отданные мною нескольким кишиневским евреям. Но почему-то оба эти факта вдруг потеряли в его глазах свое значение, он говорил о них полушутя, полувопросительно, и я остался при том убеждении, что первоначальная холодность ко мне министра была вызвана нашим походом против правил 3 мая. Догадка моя тем вероятнее, что ни о моей записке, ни вообще о комиссии по еврейскому вопросу Плеве со мной не заговорил.
Перерыв заседания и выпитый чай не прояснили наших мыслей, и когда мы снова приступили к «обмену мнений», оказалось, что обмениваться нам было нечем. Министру надоело с нами возиться и он закрыл заседание, сказав, что его товарищ, Стишинский, пригласит нас для продолжения занятий под своим председательством. Заседание это вскоре состоялось, и часть его членов, избавившись от гипнотического очарования, которое Плеве, несомненно, имел способность производить на многих, приняла участие в обсуждение министерского проекта. Однако, похвастаться успехом смогли при этом немногие, по крайней мере таково было убеждение Стишинского, сказавшего в конце заседания своему близкому знакомому одну только фразу: «C’est a pleurer!»
«Хоть плачь», – такое впечатление вынес товарищ министра от губернаторов в 1904 г. Теперь, в начале 1907 г., когда весь почти состав