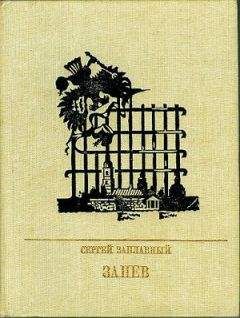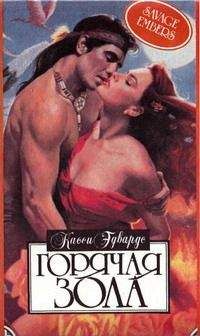Родители Струве имели скандальную славу. Отец губернаторствовал — сначала в астраханских, затем в пермских землях. Мать, баронесса Розен, пользуясь безнаказанностью, нагайкой вдалбливала в подданных покорность и почтение. Сын тяготился таким проявлением ее власти, жестокость ему претила. Внезапная смерть отца подсказала ему решение оставить мать, страшную и в ласке, и а гневе. Товарищ Струве по гимназии Калмыков привел его к себе, объяснив матери, что Петру некуда деться, а человек он даровитый, тянется к экономическим и философским наукам, собирается поступить в университет…
На счастье Струве, Александра Михайловна Калмыкова оказалась женщиной отзывчивой, готовой опекать и благодетельствовать. После смерти мужа, сенатора и тайного советника, она открыла на Литейном проспекте книжный склад, стала давать уроки в Смоленских воскресно-вечерних классах. Струве она оставила у себя, а затем и усыновила. Так что долго сиротствовать ему не пришлось. Из губернаторского дома он попал в генеральский.
Как раз то, чем любуется Александра Михайловна, в чем видит исключительность своего приемного сына, раздражает Петра. Талант Струве, действительно яркий, Щедро отпущенный ему, имеет теоретическую направленность, С его помощью он легко собирает мед красноречия с любых цветов. Поскольку в центре внимания общественной мысли в России оказались народничество и марксизм, Струве решил сделать ставку на марксизм. Это его конек, но не убеждение. Надеясь в двадцать три, двадцать четыре года прослыть Сократом, он и написал свои «Критические заметки…».
У Струве на каждый случай есть свои уловки, свои способы привлечь к себе внимание. Например, точным движением на черной доске, вероятно, не без умысла поставленной в комнате для гостей, он рисует круг. Заполняет его большую часть штрихами и изрекает:
— Это — познанное! По мере возвышения науки и техники будут увеличиваться его пределы. Но никогда не иссякнет вот это белое пятнышко — непознанное и непознаваемое. Оно всегда останется свидетелем несовершенства и ограниченности наших органов познания. Но именно к этому пятнышку снова и снова будут стремиться философы — в надежде проникнуть в его пределы. То же следовало бы отнести и к теории Маркса…
Струве говорит, упиваясь отыскиванием неожиданных слов, их формой, таинственными переливами, стремясь вызвать в слушателях мистическое чувство преклонения перед своей прозорливостью.
Узнав об этих витийствах Струве, Владимир Ильич едко заметил:
— Мысли не новые. По сути дела, Петр Бернгардович повторяет Канта. Но если говорить серьезно, это просто cant.[12]
Однако же Ульянов нередко бывает у Струве. Его тянет к нему желание поспорить, отточить свои знания и доводы. Струве — противник серьезный и многознающий, у него в запасе всегда какой-нибудь новый аргумент, иностранный материал, не известный Владимиру Ильичу. Ульянов тут же находит этот материал в Публичной библиотеке или где-то еще, чтобы затем вновь сразиться со Струве.
Обычно в спор-салон Калмыковой и Струве Ульянова сопровождают Старков или Степан Радченко. Но в разговорах они не участвуют. Им выпадает роль секундантов. Со стороны Струве секундантами чаще всего бывают инженер Роберт Эдуардович Классон — тот самый, у которого на масленице прошлого года познакомились Ульянов и Крупская, а также университетский товарищ казненного Александра Ульянова Михаил Иванович Туган-Барановский. Ну и, конечно, верный оруженосец Струве еще с гимназической скамьи — Потресов.
В какие только бездны исторических и экономических проблем не погружаются спорщики, каких только ссылок и выводов не делают! Со стороны порой кажется, что бой идет на равных. Ан нет, Струве хитрит, от прямого разговора о противоречиях классов уходит к текучим рассуждениям о путях и судьбах отечества вообще, ударяясь в объективизм, в профессорские дебри чисто научных построений. Ульянов терпеливо возвращает его пз спасительных закоулков на боевое пространство. Мало-помалу Струве начинает уставать, выдыхаться. Сначала он соглашается, что на смену капитализму неизбежно идет новый строй, что социалистические идеалы имеют под собой твердую почву, признает неотвратимость классовой борьбы… Но диктатура пролетариата его пугает, и он вновь начинает лавировать, уходить в сторону от ясных ответов.
Струве — игрок. Он играет в марксизм. Убедить его в чем-то полностью — занятие немыслимое. Давно ужэ приняли точку зрения Ульянова и Классон, и Потресов, и Туган-Барановский, и даже Александра Михайловна Калмыкова, а Струве упорно стоит на своем. Еще и негодует на своих секундантов и названную мать за отступничество.
От дружбы с таким союзником мало толку. Он ненадежен…
Петр начал путано объяснять Ульянову, что он вовсе не против совместной книги, полемизирующей с народниками, а против тесных отношений со Струве, которые ему совсем не по душе.
— Ах вот оно что! — наконец-то понял его Ульянов. — Ну, Петр Кузьмич, вы меня, право, удивили! В нашем деле опасно руководствоваться одними лишь симпатиями и антипатиями. Непримиримость к противнику не должна исключать личных соприкосновений с ним и даже совместных действий, временных союзов. Вот ведь Петр Беригардович пошел на соглашение с нами, допустив в «Материалы…» мою статью, направленную, по сути дела, против него. Значит, у Струве были для этого свои резоны — не будем сейчас разбирать какие… Для меня, как для члена группы, являются законом ее установки — быстро и широко развенчать народничество, пустить в жизнь марксизм, ни на шаг не отступая при этом от основных принципов. Временные союзы в нашей работе неминуемы. Без них ни одно направление победить не сможет. А мы обязаны победить.
— Я подумаю, — пообещал Петр, уходя.
— Непременно, — согласился Владимир Ильич. — Желаю успеха.
Это прозвучало жестко и вместе с тем дружески. Ио именно жесткость успокоила Петра: должно быть, и в самом деле человеку с твердыми убеждениями не опасно иметь попутчиков даже из стана ряженых.
Петр разыскал Струве во внутреннем дворике дома шестьдесят по Литейному проспекту. Сюда выходили окна книжного склада и квартиры Калмыковой, задние двери мелочной лавки купца Беспалова и двухэтажного флигеля, а также апартаменты хорошо известных в округе аптекаря, нотариуса, портного. Дворик был ухожен, имел нечто вроде аллейки из плохо растущих лип и кленов, а меж ними мощеную дорожку. На этой дорожке Струве учил катанию на велосипеде свою невесту Ниночку Герд.
Ниночка, а точнее Нина Александровна Герд, — гимназическая подруга Крупской. Прежде они были неразлучны. Даже в Смоленской воскресно-вечерней школе стали учительствовать по общему решению. Но с появлением Струве их дружба распалась. И дело тут даже ие в самом Петре Бернгардовиче, а во взглядах, которыми он заразил Герд. Благодаря ему она вспомнила, что отец ее, директор гимназии, принадлежит к избранному кругу людей, что ей вовсе не хочется ломать свою жизнь ради обездоленных; конечно, она готова для них что-нибудь сделать, но в пределах разумного.