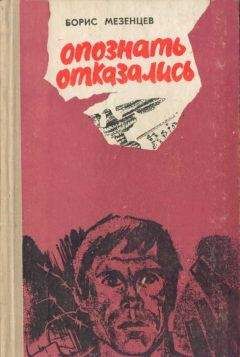Подпольщики нашей группы привыкли регулярно получать сведения о событиях на фронте, о жизни страны и мира, но с уходом Анатолия на нелегальное положение мы остались, что называется, «без ушей».
В квартире Анатолия уже вторую неделю была засада: дежурили днем — один, а ночью два полицая. Мать командира, тетя Катя, каждый день уверяла полицейских, что сын ушел менять вещи на продукты в Запорожскую область и, возможно, останется там у богатого мужика батрачить за кукурузу и картошку.
Чаще всех днем в квартире сидел круглолицый, всегда с полуоткрытым ртом полицай. Тупой и нахальный, он ревностно нес службу.
— Мурло мурлом и дурак редкостный, — отзывалась о нем тетя Катя. — Прежде чем сказать явную глупость, он ее старательно и долго обдумывает.
Несколько раз наведывался в дом бывший парикмахер, ставший при фашистах каким-то полицейским начальником. Узкоплечий, с накрашенными усами, вертлявый, он важно расхаживал по комнате и орал на тетю Катю:
— Врешь, ведьма, знаешь, где твой бандит! Не скажешь — тебя заберем, — а у нас, как известно, несладко. И не тебе чета, а язычки развязывают.
— На менке он, правду говорю, — отвечала тетя Катя.
Николай не находил себе места, придумывал самые фантастические планы, которые позволили бы заполучить приемник. Зная, когда и где обычно купается ребятня, Николай близко к полудню спрятался в лозняке на берегу Торца. Вскоре из-за старой казармы выскочила ватага подростков и взапуски пустилась к реке. Среди ребятишек был и его брат, Толик. Все они, на ходу поснимав рубашки и майки и побросав их на берегу, с визгом попрыгали в воду. Дождавшись, когда Толик вышел на берег, Николай окликнул его.
— Как у нас дома? — спросил, когда братишка подбежал к нему.
— Папка болеет, кашель его замучил. Мамка сама огород полола.
— А тетя Катя?
— Полицаи у них дежурят. Дальше колодца ее и не пускают. Анатолия полицаи караулят, а он, как и ты, убег куда-то.
— Скажи маме, пусть вечером придет в парк к лодочной станции. И, смотри, обо мне ни слова и никому… что мама пойдет ко мне.
— Понимаю. Не маленький.
— Ладно, Толяй, не обижайся, я просто предупредил.
Перед вечером Николай в парке забрался в гущу кустарника около бывшей лодочной станции. По сторонам причала на квадратных постаментах стояли гипсовые фигуры гребцов, изрешеченные пулями развлекавшихся стрельбой немцев. Николай смотрел на обезображенные скульптуры, вспоминал, как до войны помогал старику смотрителю станции конопатить и смолить прогулочные лодки, а за это старик разрешал вволю кататься на его персональном двухвесельном «катере».
Николай услышал торопливые шаги, приподнялся. Раздвинув ветки, увидел быстро идущую мать, в руках она несла ведро.
— Мама! — окликнул он ее.
Она подошла, протиснулась в глубь кустарника. Обнимая и целуя Николая, горько проговорила:
— Не дай бог матерям дожить до таких дней, чтобы встречаться с сыновьями украдкой.
— Мама, это упрек?
— Нет-нет. Ты поступаешь, как велит тебе сердце. Я горжусь тобой, но мне… страшно, сынок.
Она достала из ведра две кукурузные лепешки и бутылку с еще горячим чаем. Передавая сыну, спросила:
— Трудно тебе?
— Не очень, мама, живу у надежных людей, — Николай съел лепешку, выпил чай, положил на дно ведра вторую лепешку. — Это вам, меня хорошо кормят. — Поглядел на мать, спросил: — Как дела у нас и у тети Кати?
— К нам дважды наведывались полицаи, спрашивали про тебя. Мы сказали, что ты работаешь в госхозе. Наводили они справки и у соседей. Те подтвердили, что ты на заработках… А вот у тети Кати дела хуже. Полицаи днюют и ночуют. С нее глаз не спускают, к соседям запретили ходить. К колодцу пока отпускают.
Она глубоко вздохнула. Николай ласково тронул ее за плечо, сказал:
— В комнате Анатолия спрятан радиоприемник, а он так нужен нам. Мама, договорись с тетей Катей, чтобы оставила она открытым окно… и пусть уведет полицая в коридор или во двор. Я тем временем заберу приемник.
— Опасно, сынок.
— Мигом справлюсь, мама. В кустах сирени заранее спрячусь, а когда заберу — сразу в парк, и был таков. Поговори завтра у колодца с тетей Катей, потом придешь сюда. С утра буду здесь. Мама, сделаешь?
— Попробую, сыночек.
— Захвати для меня наволочку или мешок, — Николай поцеловал мать и быстро пошел по берегу в сторону Новоселовки.
На следующий день мать пришла рано утром.
— Коля, надо идти сейчас же. Тетя Катя все продумала. Я пойду впереди. Буду нести тряпку и ведро. Если уроню тряпку, значит, опасно, насторожись. Поставлю ведро на землю — уходи!
Мать спокойно пошла в сторону Бутылочной колонии. Пройдя мимо сараев и очутившись около угла дома, где жил Анатолий, Николай юркнул в густые заросли сирени. Мать прошла мимо квартиры Стемплевских, подала знак тете Кате: Николай здесь.
Тетя Катя начала жарить лепешки. От сковородки потянуло густым удушливым смрадом.
Вскоре полицай, ожидавший обещанных лепешек, вытирая слезящиеся глаза и беспрерывно кашляя, забурчал:
— Ты що их на мазути смажэшь? Пропасты можно.
— Жир такой, потерпи уж, — отозвалась тетя Катя, добавляя на сковородку какой-то смеси.
— Та хай воны сказяться, очманив! — не вытерпел полицай и, подхватив винтовку, выскочил в коридор.
Тетя Катя метнулась в комнату Анатолия, распахнула окно.
Она еще не закрыла за собою дверь, а Николай был уже в комнате. Положив рядом пистолет, финкой поддел доски, вытащил приемник, сунул его в наволочку. Затем прикрыл лаз в подпол и метнулся к окну.
Улица была пустынна, лишь недалеко у колодца стояла мать. Приподняв руку, дала знать, что вокруг спокойно.
Тетя Катя потом, смеясь, рассказывала:
— Эрзац-жир помог. Правда, в него я всякой дряни понадобавляла. Не только мы, но и полицай лепешки есть не стал, хотя прожорливый, как свинья.
В тот же день приемник был установлен у Вали Соловьевой. Подпольщики снова начали слушать Москву, в городе появились листовки, сообщавшие о разгроме немцев на Орловско-Курской дуге.
С Николаем мы встретились возле хлебозавода. Я шел к Залогиной за радиолампами, а он к подпольщику Виктору Парфимовичу, дом которого находился недалеко от городской больницы. Настроение у Николая было радостное:
— Ты читал «Как закалялась сталь»?
Я удивленно посмотрел на друга: до войны, конечно же, не было ни одного школьника, не прочитавшего этой книги.
— Нет, ты прочитай сейчас, на многое посмотришь иначе. Хочешь, сегодня принесу Островского? Возьму у Парфимовича.