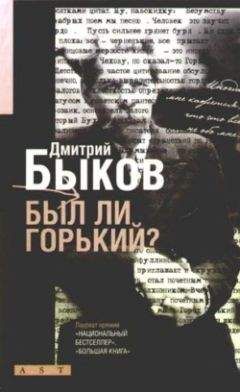Ознакомительная версия.
– Я пОпытаюсь, Иосиф Виссарионович, пОпытаюсь…
– А ви попытайтесь, попытайтесь. Попитка ведь не питка, не так ли, товарищ Берия?!
Но никто не уговаривал, не склонял и тем более не пытал. В разгар перестройки на телеэкраны вышел чудовищный биографический сериал «Под знаком скорпиона», в котором Сталин напрямую угрожал Горькому, хамил ему, шантажировал писателя и вообще вел себя как средней руки рэкетир на стрелке в московском ларьке. Обида в том, что Сталина сыграл замечательный Игорь Кваша, а Горький стал последней ролью превосходного псковского актера Валерия Порошина. «Я тебе даю жрать из корыта ЦК!» – кричал Сталин. «Выблядок! Уголовник!» – восклицал в ответ Горький – по меткому выражению критика Виктора Матизена, вспоминая «босяцкое прошлое». Ну, да в перестройку снималась и не такая ерунда. Не в картине дело, а в том, что соблазн представить Горького противником Сталина был в самом деле очень силен: не мирится русское сознание с тем, что большой – действительно большой, всемирно знаменитый – писатель живет в эпоху террора и горячо его одобряет. А ведь Горький в эту эпоху жил – нельзя же всерьез утверждать, что сталинский террор начался в 1937 году! У Нины Берберовой – женщины исключительно трезвой – встречается даже версия о том, что Сталин специально ждал смерти Горького, чтобы развернуть массовые репрессии; но тогда непонятно, почему он ждал еще год? Ведь так называемый Большой террор начался с ареста и уничтожения Тухачевского и еще нескольких десятков высших военных руководителей – в мае 1937 года. Утверждение, что Горький непременно вступился бы за хорошо ему известных партийцев – таких, как Бухарин или Рыков, – тоже, к сожалению, ни на чем не основано. Репрессии против Каменева и Зиновьева начались не в 1937, а в 1934 году, при его жизни, и Зиновьев обратился к Горькому со слезным письмом еще в 1935 году, но никаких последствий из этого не проистекло. Больше того: Горький вообще очень мало за кого заступался, вопреки легенде. В 1918 году и до самого отъезда – хотя все реже – он действительно пытался, чаще всего успешно, вырывать интеллигентов из чекистских лап; но в тридцатые годы известно лишь несколько его просьб, всегда очень деликатных и осторожных, и всегда это заступничество касалось не партийных вождей, а лично ему известных, биографически близких персонажей, большой роли в судьбе страны не игравших. Не забудем и о том, что Зиновьев и Каменев не только не были друзьями Горького – он считал Зиновьева личным врагом, никогда не питал дружеских чувств к Каменеву, во многом не соглашался с Бухариным (с его докладом на I съезде советских писателей там же полемизировал в открытую, запрещая преувеличивать роль Маяковского, – он вообще перестал критиковать Маяковского только после того, как Сталин в резолюции на письме Лили Брик назвал его лучшим, талантливейшим и – за отсутствием готовых на это живых – произвел мертвого в главные поэты эпохи). Так что ожидать, что он вступился бы за Зиновьева, Каменева или Бухарина, – практически невозможно: слово «троцкист» было для него несмываемым клеймом, а степень популярности Троцкого среди партвождей он помнил отлично. И хотя прямых высказываний о Троцком у него немного, да и в жизни они почти не пересекались, – после высылки Троцкого в 1927 году он отзывается о нем исключительно гневно, ни на секунду не подвергая сомнению партийную линию на расправу с оппозицией.
Нет ни одного свидетельства о том, что Горький отводил расправы или добивался смягчения участи «врагов народа»; напротив – известны его пылкие открытые письма с призывами к решительным расправам, а также обращения к западной интеллигенции, защищающей, оказывается, не права человека, а конкретное право человека на вредительство. И в репрессивных своих требованиях Горький бывал весьма убедителен – потому что искренне полагал (или успешно себя убедил), что сталинизм является единственной альтернативой фашизму. В какой-то мере так оно и было. А улучшать и совершенствовать этот сталинизм, придавая ему человеческое лицо и европейский лоск, он считал себя не вправе, да и вряд ли полагал это нужным. Ведь страна изнемогает в фашистском окружении! Для него, как и для большинства европейских интеллигентов, вопрос в тридцатые стоял так: либо разъярившиеся от собственной обреченности, готовые на все империалисты и их передовой отряд, германские и итальянские фашисты (за ростом популярности фашизма в Италии он мог наблюдать лично – его там не трогали, свободы не стесняли, но Муссолини, понятное дело, его симпатий не вызывал), либо Россия, с ее ошибками и пороками, но и с небывалым экспериментом, запускающим историю с нуля. И в пространстве этого небывалого эксперимента ему отведено свое место – он защищает культуру, отбирая лучшее из старой, помогая строить новую, отрезая лишние побеги и выпалывая сорную траву, как мудрый садовник. Себя он считал достаточно компетентным, чтобы судить о том, что нужно массам, ибо из этих масс вышел и во всех прочих колхозниках и пролетариях СССР подозревал такую же дикую жажду знаний и любовь к информации. Какой тут может быть выбор? Любой, кто хоть на секунду усомнился в великих достижениях СССР, – играет на руку фашизму, и третьего не дано. А немногочисленные, сохранившиеся в воспоминаниях современников обмолвки насчет того, что «обложили старика», заперли, никуда не пускают, – были обычным брюзжанием, давно входившим в его имидж. Возможностями он обладал серьезными, влиянием – несомненным, и если бы ему действительно любой ценой нужно было поднять голос против происходящего – он нашел бы шанс это сделать, тем более что иностранцы посещали его постоянно. Но и Роллан, и Уэллс, рассказывая о встречах с ним в тридцатые, характеризовали его как законченного сталиниста.
Что касается его заступничества, то здесь он вел себя типичным Лукой из собственной позднейшей характеристики: утешал, чтобы не тревожили его душевного покоя. Обратился к нему, например, Платонов с просьбой помочь в публикации «Чевенгура». Он ответил ему ободряющим письмом – «Все минется, одна правда останется», – но для публикации главного платоновского романа палец о палец не ударил. И с работой, и с публикациями ни разу ему не помогал. Больше того, в благом деле оправдания репрессий он действовал с некоторым даже опережением. Скажем, статья 1934 года «О хулиганах» подкосила биографии Павла Васильева, Бориса Корнилова, Ярослава Смелякова – поэтов исключительного таланта: первым двум она стоила жизни, третьему – двух сроков. Можно сколько угодно строить догадки – мол, и без Горького они доигрались бы, – но факт тот, что первым против них в печати выступил именно он, и поводом для этого выступления послужили их довольно невинные даже по тогдашним временам забавы; были, конечно, и дебоши, и пьяные драки, но с отчаяния чего не сделаешь, в безвоздушном пространстве как еще разгонять тоску? Именно после горьковской статьи Васильева и Корнилова взяли в серьезную разработку, и нюх на таланты ему здесь не изменил – в молодой советской поэзии тридцатых они были действительно лучшими. А его борьба за чистоту языка – против Гладкова и Панферова, против старика Серафимовича? Конечно, это были литературные дискуссии, не более, – но в дискуссиях этих он выступал с церберских охранительных позиций, да ведь и литературные споры стали в те времена небезобидны! Нивелируя язык, ратуя за его правильность, он формально боролся за общедоступность литературы, но на деле-то чесал ее под одну гребенку; борясь с местными речениями и языковой фальшью – выступал против того немногого, что хоть как-то, пусть коряво, возвышалось над ровной поверхностью благонамеренной культуры!
Ознакомительная версия.