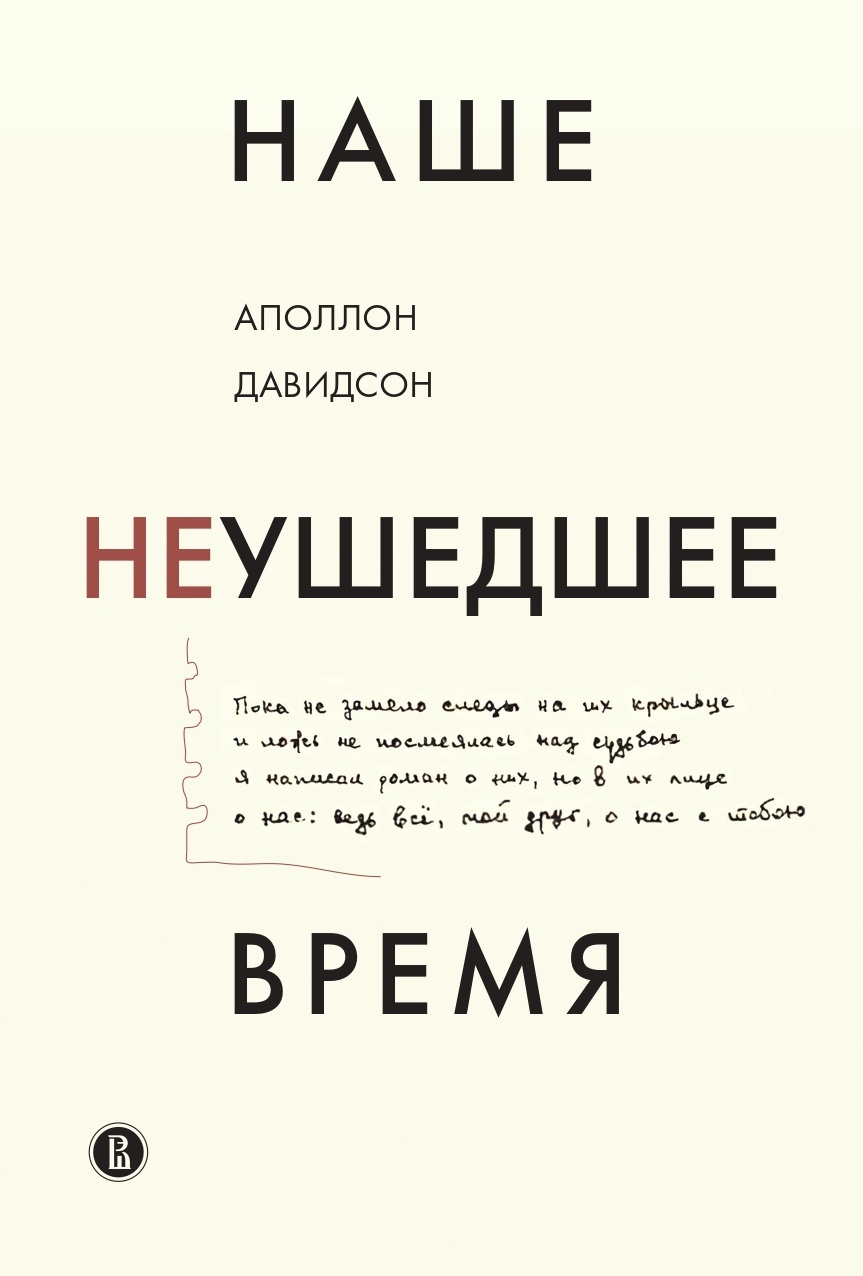влюбился еще гимназистом.
Расспрашивать о нем – вопросов уйма. Ведь тогда мы знали только его стихи. А о нем самом – почти ничего.
Прежде всего: сколько же было путешествий? В какие именно страны? Когда? И почему – Африка?
Правда ли, что поэт участвовал в тайном антибольшевистском заговоре? И сам заговор: был ли он на самом деле?
И еще, и еще, и еще… Почему вернулся в Россию из Франции и Англии летом 1918-го, когда люди его круга бежали из страны? И как это получилось, что самыми творческими для него годами успеха было страшное время Гражданской войны, «военного коммунизма», разрухи, голода, террора?
Задать все эти вопросы я и не мечтал. Но хоть какие-то.
Встретиться с Анной Андреевной оказалось нетрудно: я знал людей, с которыми она была близка. Но не знал, как она, через столько лет, относится к Гумилёву, насколько ей по душе разговор о нем. Да и вообще – верно ли она поймет меня – разница поколений. Хорошо помнил ее стихи: «отцы и деды непонятны».
Ордынка. Квартира Ардовых. Маленькая комнатка, в ней раньше жил член семьи Ардовых – Баталов, ставший известным артистом. На подоконнике – фотографии, переснятые со старых. Наверху – Гумилёв. Не к моему ли приходу?
Как она выглядела? Среди людей ее возраста многие казались моложе. Но ведь:
Сто раз я лежала в могиле,
Где, может быть, я и сейчас [176].
Задать вопросы удалось не сразу. Пришлось отвечать самому.
– А почему Вас так интересует Николай Степанович?
Должно быть, ей хотелось услышать еще одно свидетельство, какими же тропами мое поколение пробиралось, вернее, продиралось к Гумилёву, да и к ней самой.
* * *
Ведь у каждого поколения свой путь. Школьники двадцатых еще могли читать советские издания Аверченко, мемуары Керенского, Деникина, Краснова, дневник Суворина, даже тома переписки Николая II с женой, с великими князьями, с кайзером Вильгельмом. В книжных магазинах еще продавались посмертные, вышедшие в начале двадцатых сборники Гумилёва. О нем еще говорили и спорили на лекциях, на публичных диспутах. Маяковский в своих выступлениях на литературных вечерах объявлял, например, тему: «С чем ездил Гумилёв?». Отвечал на вопросы, не задумываясь:
– Вот говорят: «Хороший поэт». Это мало и неправильно. Он был хорошим контрреволюционным поэтом.
А об Ахматовой и Цветаевой:
– Ахматова – Цветаева? Обе дамы одного поля… ягодицы.
Многие смеялись. Но кто-то возмущался:
– Пошлость. Стыдитесь.
Это слышал на выступлении Маяковского семнадцатилетний Лев Копелев в 1928-м.
Когда мне пошел семнадцатый, в 1946-м, никаких диспутов о Гумилёве и Ахматовой уже не было. И быть не могло. Доклад Жданова выходил брошюрами по полмиллиона экземпляров. Все определения там совершенно однозначны.
Созданный Гумилёвым акмеизм? Жданов не допускал никаких сомнений:
– Акмеисты, как и символисты, декаденты и прочие представители разлагающейся дворянско-буржуазной идеологии были проповедниками упадочничества, пессимизма, веры в потусторонний мир.
Да и о чем спорить? Не припомню, чтобы кто-нибудь у нас в школе или в других местах что-нибудь спрашивал. Где найти предмет спора – стихи Гумилёва, если их к тому времени не печатали уже четверть века. Но я-то их знал…
И все же вопрос Анны Андреевны: «А почему Вас так интересует Николай Степанович?» застал меня врасплох. Я не был готов к такому повороту.
Стал сбивчиво рассказывать, как впервые услышал о Гумилёве. Сказал, что это было еще в детстве, в середине тридцатых, что жил рядом с домом, где Гумилёв провел свои последние годы.
Возле дома останавливалась цистерна с керосином. Громко звучал рожок. Хозяйки с бидонами спешили запастись: керосином заправляли примусы и керосинки. Взрослые брали меня с собой в очередь. Там я и услышал, как мама вполголоса говорила кому-то:
– Тут вот, на втором этаже…
Рассказал, что я видел Арбенину, возлюбленную Гумилёва. И что Африку я в детстве представлял по стихам Гумилёва. И именно его стихи и зародили у меня интерес к ней. И как я переписывал стихи Гумилёва из тетрадей Набоковых, еще в первые послевоенные годы.
* * *
Анна Андреевна слушала. Блокадные воспоминания, кажется, никогда ее не покидали, она прекрасно помнила таких голодных ребятишек, каким был когда-то и я.
С интересом – об артистах Александринки. Она знала их. И о Преображенской улице – может быть, потому, что никогда там у своего первого мужа не бывала. Во всяком случае, так я понял.
Думаю, эти мои сбивчивые рассказы как-то растопили ее недоверчивость, которая, как меня предупреждали, давно уже была у Анны Андреевны к посетителям, даже знакомым ее друзей. Почувствовав это, я поделился своими невзгодами. В ответ она рассказала, как дорого обошлись многим ее знакомым встречи с нею. Как, приходя домой, обнаруживала, что кто-то разрезал корешки ее книг: должно быть, даже там искали что-то спрятанное, крамольное.
Вспомнила, что Гумилёв любил рассказывать о своих африканских приключениях на вечерах в «Бродячей собаке» и, бывало, засиживался там до глубокой ночи, пропустив последний поезд домой, в Царское. Сама же она бывала там куда реже. И вообще говорила о «собачьих» вечерах без большого восторга. По-настоящему интересного видела там не так уж много. Далеко не все поэты и писатели ей нравились. К тому же много было пестрой публики, не имевшей никакого отношения к литературе, приходившей просто поглазеть. Поэты-завсегдатаи насмешливо называли их «фармацевтами».
Я спросил, чему обязан Гумилёв своими разнообразными интересами, широким кругозором. Не тому ли яркому обществу, которое собралось тогда в Царском Селе? Анна Андреевна, к моему удивлению, запротестовала. Помилуйте, общество было скучным, жизнь – монотонной, влияние образованного Петербурга чувствовалось мало. Да и первые стихи Гумилёва приняли там плохо: даже ехидные пародии писали. Так что своей образованностью Гумилёв был обязан главным образом самому себе. Благотворным назвала влияние Иннокентия Анненского.
* * *
Анна Андреевна не раз подчеркнула, что Гумилёв любил в себе путешественника. Хорошо помнила даты путешествий, факты. (Потом в ее записных книжках того времени я нашел запись «Гумилёв и Африка».) Очевидно, ожидая моих расспросов, она освежила это в своей памяти. Написала даже, что для него «путешествия были вообще превыше всего и лекарством от всех недугов».
Но говорила об этом все-таки без особого пиетета. Интереса к его странствиям я не почувствовал.
Тогда это меня удивило. Но потом я понял, что эта его страсть не объединяла их. Скорее наоборот. Далекими странами она не грезила, в ее стихах им места не нашлось. Бывало, что и в путешествия-то он отправлялся из-за семейных размолвок.
А он любил рассказывать о своих