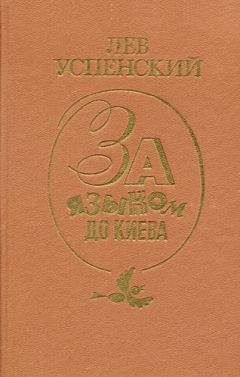Так или иначе, но выздоровление мое сильно затянулось, преследовали гипертонические кризы, и только в 1984 году я, с помощью жены — спутницы, смог снова выбраться на отдых в Москву и попутно в издательство «Молодая гвардия».
Секретарь комиссии (конкурса) был на месте, встретил радушно и, усадив за отдельный столик, дал папочку с рецензиями на «Красные дни». Там было три отзыва: профессора — историка Н. Н. Яковлева, писателя (бывшего секретаря Шолохова) Ф. Ф. Шахмагонова и еще одного доцента МГУ, фамилии которого теперь уже не помню.
Мы с женой бегло просматривали одну рецензию за другой и глазам своим не верили: никогда ни на одну из моих книг (а их было уже около двух десятков) не было столь высоких, прямо сказать, блестящих и притом единодушных отзывов, как на этот раз. Бог, что ли, смилостивился к немощному от болезни автору, но рецензенты будто соревновались в высоких оценках.
Ф. Ф. Шахмагонов:
«Если говорить о художественной литературе, посвященной гражданской войне, то надо признать, что тот ее пласт, которого коснулся Анатолий Знаменский, давно звал к себе и исследователей, и художников. (…) В мою бытность секретарем Михаила Шолохова в 50–х годах к нему начали поступать очень серьезные запросы читателей. Михаил Шолохов не ставил перед собой задачи создания исторической монографии или исторической хроники. Поэтому он и не возвращался к тексту (начала 30–х годов), не вносил тех переделок, которые ему предлагались. Исторические неточности и в малом, и в большом как бы отошли в сторону, затушевались художественными достоинствами романа. (…).
История гражданской войны на Дону давно требовала пересмотра и некоторых фактов, и, конечно лее, концепции «донской Вандеи». Анатолий Знаменский взялся за это нелегкое дело, поднялся на редкостный в наше время писательский подвиг — резать поперек ложных взглядов на донские события…
Знаменский создал роман — хронику, он выбрал единственно возможный жанр для решения своей задачи — показа подлинной исторической роли казачества, для восстановления исторической правды…
Роман — хроника — сложное, многоплановое, полифоническое произведение, написано на одном дыхании, с большим мастерством, его историческая основа покоится на неопровержимых документах, его действующие лица, исторические лица выписаны убедительно, достоверно. Я уверен, что издание романа А. Знаменского явится крупным событием для советской литературы».
Н. Н. Яковлев:
«…Вероятно, М. Шолохов в «Тихом Доне» был первым, кто попытался приоткрыть завесу недомолвок, наброшенную на верхнедонское восстание… М. Шолохов поставил вопросы, но в силу определенных обстоятельств не смог дать на них полные ответы. Оно и понятно: помимо прочего, ему приходилось обозревать происходящее на Тихом Дону с учетом того, что писал, например, «в исторической записке Ленину товарищ Сталин», или указывать на «последствия пораженческого плана Троцкого».
А. Знаменский в наше время имеет возможность сказать больше, полнее, воздав должное Ф. К. Миронову, салю имя которого во времена сталинщины находилось под запретом…»
Пока мы читали и третью рецензию примерно такого же содержания, Дмитрия 3. зачем‑то вызвал к себе заведующий редакцией. Отсутствовал он долго, а когда возвратился, то на нем, как говорится, лица не было. Он как‑то потерянно махнул рукой и положил передо мной форменную бумагу с грифом издательства. Потом отошел к фортке и закурил нервно.
В официальном ответе на мое имя говорилось:
«№ 19/100 10 октября 1984 г.
Уважаемый товарищ Знаменский А. Д.
В издательстве ознакомились с Вашей рукописью «Красные дни», присланной на конкурс им. Н. Островского. Благодарим Вас за внимание и творческое предложение. К сожалению, в ходе предварительного рассмотрения не было сочтено возможным рекомендовать Вашу рукопись к дальнейшему участию в конкурсе. Согласно положению о конкурсе рецензии не высылаются.
Рукопись возвращаем вместе с письмом.
Всего Вам доброго, зав. редакцией пропаганды (подпись)».
Я вопросительно посмотрел на Дмитрия 3.:
— Что случилось?
— Кто‑то доглядел, видимо… Тут ведь — тройной контроль…
— Почему же нельзя дать копии рецензий? — почти остолбенел я.
— Сказал: надо сделать такой вид, что этой рукописи у нас, мол, вообще не было…
— Но — хоть ксерокопии… можно снять?
— Не могу. Запрет. Выгонят с работы.
Жена положила тяжелую рукопись в сумку, мы стали собираться.
— Посоветуй хоть, как мне их заполучить? — кивнул я на тонкую папочку с рецензиями.
— Лучше всего обратиться к рецензентам лично. Я дам телефоны. Николая Николаевича вряд ли застанешь, он больше на работе. А Федор Федорович всегда дома…
«Конечно, частные рецензии — не чета официальным копиям солидного московского издательства, но все же… Можно попробовать», — успокаивал я себя, записывая телефоны.
Жена дала мне таблетку валидола.
8.Все это написано для «молодых» (сорокалетних) писателей, считающих, что их время пришло, а всех стариков — конформистов, мол, пора сбросить с литературного корабля кверху тормашками… Поскольку, они, мол, «сами себя загнали в резервацию…».
Конечно, смена поколений неизбежна, тут спору быть не может, но — к чему «базаровские» модификации, к чему бунт на корабле, когда корабль не только тонет при большом крене, но, возможно, уже утонул?
Во — первых, ложен тезис насчет «загона в резервацию».
Нет, все русские люди, в том числе, конечно, и писатели, родились в резервации, не подозревая об этом. Даже — в смертельном ГЕТТО коллективизаций и концлагерей. А духовная‑то «резервация» русских в России приключилась давненько, чуть ли не со времен Петра Велико — проклятого, при котором, говорят, население Руси сократилось ровно наполовину… Потом было дворянство, разговаривающее на французском, а крепостных актеров и драматургов меняли на собак… Потом были какие‑то реформы, Россия стала подниматься в мире, как исполин, и тогда ВНЕШНИЕ силы устроили у нас кровавую баню 1917–1921 годов, отголоски которой слышим мы до сих пор.
Но прорыв в духовной блокаде, пролом стены в той резервации был безусловно, и его совершили в культуре бывшие фронтовики, вернувшиеся домой под знаменами Великой Победы. Их трудно было прищучить и загнать обратно в хлев, с ними заигрывали, цацкались.
Их слабый, разрозненный порыв укрепил в значительной мере Генералиссимус своим знаменитым тостом: «За великий русский народ!». Но эта борьба с «правящей закулисой» была долгой, трудной и жестокой, со множеством жертв, которые трудно перечислить.
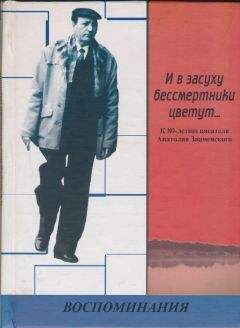
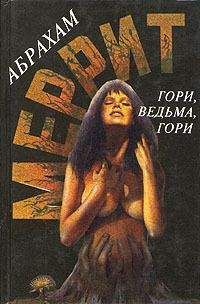
![Абрахам Мэррит - Гори, ведьма, гори! [Дьявольские куклы мадам Мэндилип]](https://cdn.my-library.info/books/82328/82328.jpg)