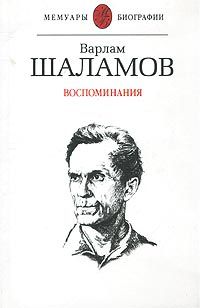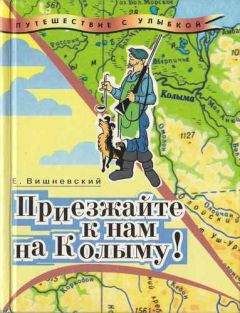Так как денег у меня было мало — поэту, фельдшеру, агенту снабжения равно надо питаться четыре раза в день, — то тощий кошелек подстегивал мою судьбу, заставляя то не доводить до конца дело, то не полагаться на обещания. Однако я ещё держался, спал в вагонах, ждал решения. Надо мной висел дамоклов меч излишнего перерыва в стаже — тощую мою трудовую книжку, выданную на Колыме, разведочный, анкетный, охранительный метод угрожал подвергнуть ненужному вниманию «органов». Дело в том, что по тем временам разрешен был только двухнедельный перерыв в стаже — и для Дальнего Севера с прибавлением ещё двух недель. И все. Между тем или, вернее, именно поэтому администрация тянула ответ, ставя меня в безвыходное положение. Это тоже один из принципов, не столько бюрократический, сколько охранительно-разведочный. Но я ещё верил — волю я знал мало. В конаковском райздраве, где я хотел устроиться фельдшером, от меня потребовали характеристику с места работы, то есть из Магадана, из сануправления. За свой счет я отправил телеграмму туда и через неделю получил ответ, разумеется, самого секретного характера — у нас все было секретно, — где разрешалось прочесть ответ автору телеграммы, то есть мне. Смысл ответа был тот, что лагерный фельдшерский документ действителен только на Дальнем Севере, только в управлении Дальстроя и что права лечить больных людей я не имею. Заведующий конаковским райздравотделом не то, что относился ко мне чересчур подозрительно и как-нибудь партийно плохо — скорее безразлично. Он предложил мне поехать в Калинин и там объясниться по поводу своего рабочего стажа и так далее. Звонил ли он в Калинин, не знаю. Калининский горздрав нашел выход другой, юридически вполне обоснованный, поскольку у меня нет документа, а фельдшерские курсы лагерные могут быть приравнены лишь к неоконченному сестринскому техникуму. Мне и давали разрешение на работу с оплатой, как медсестре в сельской местности с незаконченным образованием. По закону это выходило чуть более 200 рублей в месяц. Я даже не думал, что у нас в стране на 37-м году революции существуют такие официальные государственные ставки. Конечно, на двести рублей в месяц в 1954 году я жить не мог, фельдшерскую специальность приходилось бросить. В вагоне возвращался я из Калинина в Конаково, под постукивание колес я ещё обдумывал варианты и возможности даже в таких условиях, перерыв в стаже ведь кончался. Я пришел в конаковский райздравотдел и выразил согласие на эту двухсотрублевую работу. Но вертушка только началась. Чтобы получить работу, нужна прописка. А чтобы прописаться — нужна работа. Это адский круг, хорошо знакомый всем, побывавшим в заключении, всем, хлебнувшим тюремной похлебки.
Я отправился на прием в местное НКВД — не помню уж фамилии начальника, как и во всех этих учреждениях, чрезвычайно любезного. Начальник отказал.
— Нет, нет, только не бывших заключенных. К тому же в Конакове уже больше десяти тысяч жителей. Без работы я не пропишу, найдете работу, придете ко мне, все будет решено.
Я вернулся в райздрав.
— Как пропишетесь, так и получите работу.
Железные стенки клетки, вертушки я ощутил очень хорошо. На медицинской специальности приходилось ставить крест. Конечно, во время этих скитаний я не тратил денег на дома колхозника или гостиницы. Вокзал, только вокзал, вагонная койка — вечное мое прибежище, транзитная арестантская кровать. В это время я об этом и не думал. Я и не знал, что существуют какие-то иные способы спать, кроме вокзала и вагона.
Большие пожары
[история архива]
В 49-м году на ключе Дусканья вытолкнулось на [перо] нечто неукротимое, как смертельная рвота… Я устоял, оклемался, очнулся от этого потока бормотания смеси из разных поэтов и продолжал жить, к своему удивлению. Все первые стихи написаны мною на оберточной бумаге, предназначенной для рецептов. Я был фельдшер и по казенной разверстке получал бумагу по норме, экономил ее. Вскоре я выяснил, что можно и не носить с собой эти оберточные блокноты. Жил я в фельдшерской избушке, один, стало быть, скрыт — постыдные тайны стихотворения не откроются никогда.
Один — в этом вся надежда, если [пойдет] удача.
Двое — это сто процентов риска.
Родилась же в 37-м году горькая острота: «Человек разглядывает себя в зеркало при утреннем бритье — один из нас предатель».
У меня были свои подсчеты: все, что не вышло за изгородь зубов, — твое, все, что вышло, — может, твое, а может быть, и нет.
Сталин ненавидел стихи и не простил Мандельштаму. Выжал из Пастернака «Художника», живущего в соседстве с «поступком, ростом в шар земной».
На Колыме стихи не уничтожали, не жгли, как некие жертвы, а хранили бережно, чтобы исказить, дать ложное толкование и овеществить самым зловещим образом. В тех миллионах обысков, «сухих бань», по выражению Бутырской тюрьмы, стихов не находили никогда. Да я их и не писал. А если и писал, то уничтожал в каком-то ближайшем просвете разума.
В 49-м году я вернулся к записи. Лагерные начальники вряд ли отличили бы стихи, даже рифмованные, не верлибр, от письма заключенного. [Нрзб].
Лагерь и стихи?
Разобраться, на первый взгляд, было невозможно. Но тетрадка взрослела, толстела…
В 1951 году я был освобожден по сроку и впервые задумался весной 1951 года, как сохранить свои стихи. Не вывезти к семье, а просто сохранить до какого-то часа, месяца, года — в чужих руках. В самих стихах, разумеется, не было ничего криминального. Самое либеральное — это «Камея», которую написал я на пленэре близ Оймякона в 1950 году.
Португалов, мой постоянный чтец, не посоветовал рвать.
— Выучить наизусть свои собственные стихи нельзя. Память — не такой инструмент, чтобы что-то надежно хранить. Ну, 20, 30 стихотворений можешь выучить, поверь моему актерскому опыту. Но не тысячу же! Как у тебя. Подготовь к отъезду, вручи Воронской…[44] Имя отца, традиция — дело верное. Тем более кто возьмет, прочтет: «Камея».
Разговор с Воронской я отложил до реальности отъезда — и стал записывать все стихи в две тетради с надеждой один экземпляр вручить Мамучашвили — даме последней Траута, а второй — Воронской.
И вот в двух пачках было по триста стихов. Каждое было просмотрено на свет, но ещё и на звук, чтобы при всех обстоятельствах не возникло никакого [оттенка] тематического.
— Об этом не может быть и речи! У меня дочь, дочь!!! Знакомый голос моей жены зазвучал в этом истерическом крике [Воронской].
— Да вы посмотрите, это стихи.
— Не хочу и смотреть. Нет, нет, у меня — дочь!
Я оцепенел, пораженный. Португалов был поражен не меньше моего. Но билеты в автобус уже были заказаны, расчет уже получен, доплаты доплачены после трех лет работы в больнице. Я был тверд и ждал этих доплат. На то, чтобы сжечь стихи, оставалась у меня ночь и, конечно, не на природе, не на улице — где кто-нибудь выйдет и продаст. Но у меня была дезкамера, собственная дезкамера с хорошей тягой. Я приступил к сожжению. Оказывается, жечь на обыкновенном огне обыкновенную бумагу необыкновенно трудно.