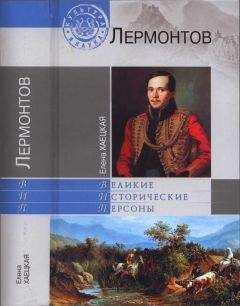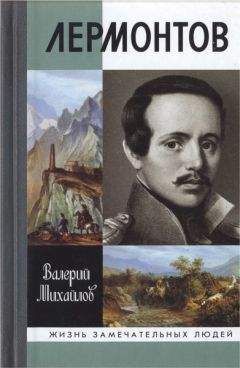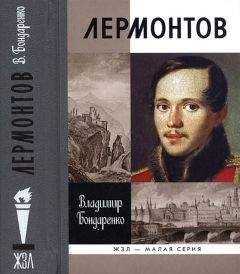Превращение завершилось. Несколько раз Вадим сожалеет о своей человечности, о том, что не принадлежит к миру духов, но относится к миру людей. Но в конце концов он перестает сопротивляться демону своей души. Он больше не страдает, он больше вообще ничего не чувствует. Вся его «умиротворенность» — ложь, но каким образом эта ложь обрушится на голову Вадима и покарает его, остается за рамками написанного текста.
Ольга, в ужасе отвернувшаяся от родного брата, Юрий, не рвущийся геройски погибнуть и благоразумно скрывающийся, перетрусивший Палицын-старший — все они брошены посреди текста.
Чувства читателей, не получивших полноценной развязки этого сногсшибательного сюжета, вероятно, Лермонтову безразличны; тем лучше для Лермонтова — и тем хуже для читателей.
Глава четырнадцатая
Приключения корнета Лермонтова
22 ноября 1834 года Лермонтов наконец высочайшим приказом произведен по экзамену из юнкеров в корнеты лейб-гвардии Гусарского полка. Нужно ли говорить, каким великим событием это стало для бабушки — и для бесчисленного «полка» лермонтовских кузин!
«В конце 1834 года он [Лермонтов] был произведен в корнеты, — пишет Меринский. — Через несколько дней по производстве он уже щеголял в офицерской форме. Бабушка его Е. А. Арсеньева поручила тогда же одному из художников снять с Лермонтова портрет. Портрет этот, который я видел, был нарисован масляными красками в натуральную величину, по пояс. Лермонтов на портрете изображен в виц-мундире гвардейских гусар, в корнетских эполетах; в руках треугольная шляпа с белым султаном, какие тогда носили кавалеристы, и с накинутой на левое плечо шинелью с бобровым воротником. На портрете этом хотя Лермонтов был немного польщен, но выражение глаз и турнюра его схвачены были верно».
После производства в офицеры господа юнкера были приведены к присяге, представлены великому князю Михаилу Павловичу, который в свою очередь представил их государю Николаю Павловичу. В конце концов «новопроизведенная молодежь» разъехалась по полкам. Лермонтов отбыл в Царское Село.
Служба его не была обременительной, и П. К. Мартьянов по этому поводу вспоминал: «Большинство офицеров, не занятых службой, уезжала в Петербург и оставалось там до наряда на службу. На случай экстренного же требования начальства в полку всегда находилось два-три обер-офицера из менее подвижных, которые и отбывали за товарищей службу, с зачетом очереди наряда в будущем».
Начальство не препятствовало подобным вольностям, и тот же Мартьянов приводит такой эпизод:
«В праздничные дни, а также в случаях каких-либо экстраординарных событий в свете, как-то: балов, маскарадов, постановки новой оперы или балета, дебюта приезжей знаменитости, гусарские офицеры не только младших, но и старших чинов уезжали в Петербург и, конечно, не все возвращались в Царское Село своевременно… Однажды генерал Хомутов приказал полковому адъютанту, графу Ламберту, назначить на утро полковое учение, но адъютант доложил ему, что вечером идет «Фенелла» и офицеры в Петербурге, так что многие, не зная о наряде, не будут на ученье. Командир полка принял во внимание подобное представление, и учение было отложено до следующего дня».
Лермонтов, как нетрудно догадаться, был из числа «подвижных» и предпочитал проводить как можно больше времени в Петербурге.
Н. М. Лонгинов утверждает, что он был «плохой служака в смысле фронтовика и всех мелких подробностей в обмундировании». (Интересно, как изменяется значение слова: после Второй мировой войны «фронтовиками» называли людей, сражавшихся на фронте, на передовой; в XIX веке «фронтом» была строевая подготовка, важная в первую очередь на парадах и смотрах.)
Новая встреча с Екатериной Сушковой
4 декабря 1834 года Лермонтов на балу у «госпожи К.» вновь, после долгой разлуки, встретился с Е. А. Сушковой. Он больше не влюбленный подросток, он — гусар. Ему известно о романе Сушковой и Алексея Лопухина; он начинает собственную интригу.
В своих «Записках» Екатерина Александровна пересказывает эту встречу до мелочей:
«Я была в белом платье, вышитом пунцовыми звездочками, и с пунцовыми гвоздиками в волосах…
…вдруг Лиза вскричала: «Ах, Мишель Лермонтов здесь!»
— Как я рада, — отвечала я, — он нам скажет, когда приедет Лопухин.
Пока мы говорили, Мишель уже подбежал ко мне, восхищенный, обрадованный этой встречей, и сказал мне:
— Я знал, что вы будете здесь, караулил вас у дверей, чтоб первому ангажировать вас.
Я обещала ему две кадрили и мазурку, обрадовалась ему, как умному человеку, а еще более как другу Лопухина. Лопухин был моей первенствующей мыслью. Я не видала Лермонтова с 1830 года; он почти не переменился в эти четыре года, возмужал немного, но не вырос и не похорошел и почти все такой же был неловкий и неуклюжий, но глаза его смотрели с большею уверенностию, нельзя было не смутиться, когда он устремлял их с какой-то неподвижностью.
— Меня только на днях произвели в офицеры, — сказал он, — я поспешил похвастаться перед вами моим гусарским мундиром и моими эполетами; они дают мне право танцевать с вами мазурку; видите ли, как я злопамятен, я не забыл косого конногвардейца…
— А ваша злопамятность и теперь доказывает, что вы сущий ребенок; но вы ошиблись, теперь и без ваших эполет я бы пошла танцевать с вами.
— По зрелости моего ума?
— Нет, это в сторону, во-первых, я в Петербурге не могу выбирать кавалеров, а во-вторых, я переменилась во многом.
— И этому причина любовь?
— Да я и сама не знаю; скорее, мне кажется, непростительное равнодушие ко всему и ко всем.
— К окружающим — я думаю; к отсутствующим — позвольте не верить вам.
— Браво, Monsieur Michel, вы, кажется, заочно меня изучали; смотрите, легко ошибиться…
Тут мы стали болтать о Сашеньке, о Средникове, о Троицкой Лавре — много смеялись, но я не могла решиться замолвить первая о Лопухине.
Раздалась мазурка; едва мы уселись, как Лермонтов сказал мне, смотря прямо мне в глаза:
— Знаете ли, на днях сюда приедет Лопухин…
Я чувствовала, как краснела от этого имени, от своего непонятного притворства, а главное, от испытующих взоров Мишеля…»
Екатерина Александровна с большой досадой убедилась в том, что Алексей Лопухин открыл Лермонтову свою сердечную тайну, между тем как от самой Екатерины требовал молчания. Лермонтов же не терял времени даром: «Он распространялся о доброте его (Лопухина) сердца, о ничтожности его ума, а более всего напирал, с колкостью, о его богатстве…»