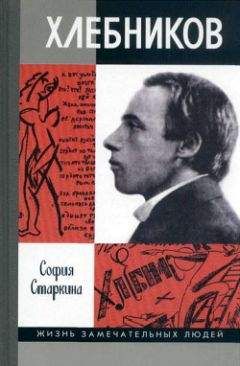(«Как! И я, верх неги…»)
Хлебников, как ранее не служивший, был зачислен в государственное ополчение ратником II разряда. Его срок призыва подходил 25 марта 1916 года. К тому времени в армии служит уже младший брат Шура, в армии многие друзья и знакомые Хлебникова. Сам он надеялся на случайное избавление, но тщетно. Однажды, когда он жил у Спасского, тот застал Хлебникова за странным занятием: он стоял у зеркального шкафа, сбросив пиджак, и пытался измерить свою грудь сантиметром. «Быстро переступив с ноги на ногу, он стал сосредоточенно объяснять: „Размер груди. Буду ли годен?“ Он выпрямился у дверцы шкафа и отметил на ней свой рост. Хотел измерить отмеченную высоту, но отбросил, скомкав, сантиметр». Войну обмануть все равно бы не вышло. Хлебников был высокого роста, силен физически, здоров, отличный пловец.
В другой раз они со Спасским выходили из мастерской скульптора Коненкова и увидели, как по переулку с невеселой песней идут ряды немолодых солдат. «Хлебников остановился как зачарованный. Но зачарованность была унылой. Он всматривался, вытянув голову, словно впервые видел эти свисающие серые шинели, откидываемые одинаковыми толчками выбрасываемых вперед сапог. Солдаты шлепали по рыжей кашице снега, по бурым, как пиво, лужам. Я не помню, сказал ли что-нибудь Хлебников или просто оглянулся на меня. Но он видел себя в этой группе под низко-лохматящимся непогодным небом запущенной Пресни, и каждый шаг ему доставался с трудом. И хотелось ему броситься на выручку и прекратить это унизительное недоразумение. И уже забывшимися сейчас словами я принялся его утешать».[89]
Хлебников, в отличие от многих, не хотевших идти на войну, не предпринимал никаких реальных шагов, чтобы как-то облегчить свою участь, пристроиться где-нибудь в тылу или при штабе. В то самое время, когда подходит срок его призыва, на Пасху 1916 года, он едет к родителям в Астрахань. Там 8 апреля его забрали в армию и отправили в 93-й запасной пехотный полк в Царицын.
Где, как волосы девицыны,
Плещут реки, там, в Царицыне,
Для неведомой судьбы, для неведомого боя,
Нагибалися дубы нам ненужной тетивою,
В пеший полк 93-й
Я погиб, как гибнут дети.
Открытку с этим текстом вскоре получил Дмитрий Петровский. «Король в темнице, король томится», — было приписано. Солдатская служба давалась Хлебникову страшно тяжело. Единственное, на что он теперь надеялся, — это помощь Николая Ивановича Кульбина, врача-психиатра, имевшего генеральский чин. Ему Хлебников пишет из Царицына страстное письмо:
…
«Николай Иванович!
Я пишу вам из лазарета „чесоточной команды“. Здесь я временно освобожден от в той мере несвойственных мне занятий строем, что они кажутся казнью и утонченной пыткой, но положение мое остается тяжелым и неопределенным. Я не говорю о том, что, находясь среди 100 человек команды, больных кожными болезнями, которых никто не исследовал точно, можно заразиться всем до проказы включительно. Пусть так. Но что дальше? Опять ад перевоплощения поэта в лишенное разума животное, с которым говорят языком конюхов, а в виде ласки так затягивают пояс на животе, упираясь в него коленом, что спирает дыхание, где ударом в подбородок заставляли меня и моих товарищей держать голову выше и смотреть веселее, где я становлюсь точкой встречи лучей ненависти, потому что я не толпа и не стадо, где на все доводы один ответ, что я еще жив, а на войне истреблены целые поколения. Но разве одно зло оправдание другого зла и их цепи? Я могу стать только штрафованным солдатом с будущим дисциплинарной роты. Шаги, приказания, убийства моего ритма делают меня безумным к концу вечерних занятий, и я совершенно не помню правой и левой ноги. Кроме того, в силу углубленности я совершенно лишен возможности достаточно быстро и точно повиноваться.
Как солдат я совершенно ничто. За военной оградой я нечто. Хотя и с знаком вопроса, и именно то, чего России недостает: у ней было очень много в начале войны хороших солдат (сильных, выносливых животных, не рассуждая повинующихся и расстающихся с рассудком, как с усами). И у ней мало или меньше других. Прапорщиком я буду отвратительным.
А что я буду делать с присягой, я, уже давший присягу Поэзии? Если поэзия подскажет мне сделать из присяги остроту? А рассеянность? На военной службе я буду только в одном случае на месте, если б мне дали в нестроевой роте сельскую работу на плантациях (ловить рыбу, огород) или ответственную и увлекательную службу на воздушном корабле „Муромец“. Но это второе невозможно. А первое хотя вполне сносно, но глупо. У поэта свой сложный ритм, вот почему особенно тяжела военная служба, навязывающая иго другого прерывного ряда точек возврата, исходящего из природы большинства, т. е. земледельцев. Таким образом, побежденный войной, я должен буду сломать свой ритм (участь Шевченко и др.) и замолчать как поэт. Это мне отнюдь не улыбается, и я буду продолжать кричать о спасательном круге к неизвестному на пароходе.
Благодаря ругани, однообразной и тяжелой, во мне умирает чувство языка. Где место Вечной Женственности под снарядами тяжелой 45 см. ругани? Я чувствую, что какие-то усадьбы и замки моей души выкорчеваны, сравнены с землей и разрушены.
Кроме того, я должен становиться на путь особых прав и льгот, что вызывает неприязнь товарищей, не понимающих других достаточных оснований, кроме отсутствия ноги, боли в животе. Я вырван из самого разгара похода за будущее. И теперь недоумеваю, что дальше. Поэтому, так как я полезен в области мирного труда всем и ничто на военной службе, даже здесь меня признали „физически недоразвитым человеком“. Меня давно зовут „оно“, а не он. Я дервиш, иог, Марсианин, что угодно, но не рядовой пехотного запасного полка.
Мой адрес: Царицын. Военный лазарет пехотного запасного 93 полка, „чесоточная команда“, рядовому В. Х.
В нем я пробуду 2 недели. Старший врач — Шапиро довольно добродушный, <но строгий>.
Уважающий вас и уже раз вами вырученный (напоминание) Велимир Хлебников.
29 февраля в Москве возникло общество „317“ членов. Хотите быть членом? Устава нет, но общие дела».
Кульбин сразу начал действовать. Он пишет письмо, в котором констатирует у Хлебникова «состояние психики, которое никоим образом не признается врачами нормальным». Письмо возымело действие лишь отчасти — Хлебникова начинают гонять по комиссиям. Одну он проходит в Царицыне, и его назначают на новую комиссию в Казань, но с отправкой медлят.