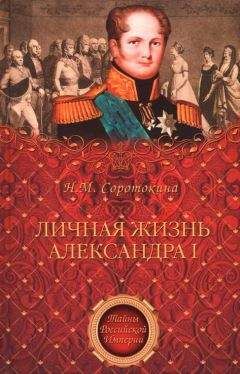«Благодушная мысль монарха склонилась к тем несчастным, которые, быв увлечены, одни обольщением самонадеянности, другие неопытностью молодости, тридцатилетними страданиями искупили свою вину». Цензуру смутило слово «страдание». Автор исправил: «…тридцатилетним заточением и раскаянием».
В обществе выход книги Корфа был принят как некий положительный знак, как «оттепель», но неожиданно разгорелся спор о личности Александра I. Корф в своей книге процитировал письмо юного Александра (еще при Екатерине II было дело) своему приятелю Кочубею. Я уже приводила отрывок из этого письма в начале книги. Вот его полный текст: «Придворная жизнь не для меня создана. Я всякий раз страдаю, когда должен выйти на придворную сцену, и кровь портится во мне при виде низостей, совершаемых другими на каждом шагу для получения внешних отличий, не стоящих в моих глазах медного гроша. Я чувствую себя несчастным в обществе таких людей, которых не желал бы иметь у себя и лакеями, а между тем они занимают здесь высшие места, как, например, Зубов, Пассек, Барятинский, оба Салтыкова, Мятлев и множество других, которых не стоит даже называть и которые, будучи надменны с низкими, пресмыкаются перед теми, кого боятся. Одним словом, мой любезный друг, я сознаю, что не рожден для того высокого сана, который ношу теперь, и еще меньше для предназначенного мне в будущем, от которого я дал себе клятву отказаться тем или другим образом. (…). В наших делах господствует неимоверный беспорядок; грабят со всех сторон; все части управляются дурно; порядок, кажется, изгнан отовсюду, а империя, несмотря на то, стремится к расширению своих пределов. При таком ходе вещей возможно ли одному человеку управлять государством, а тем более исправить укоренившиеся в нем злоупотребления? Это выше сил не только человека одаренного, подобно мне, обыкновенными способностями, но даже и гения, а я постоянно держался правила, что лучше совсем не браться за дело, чем исполнять его дурно…»
Письмо было замечено читателями, и разгорелся спор. Кто он, Александр I, как не трус, «который оставил Россию в жертву междоусобий». Ведь он признался, что, будь «он даже гений», исполнять обязанность императора ему не под силу. А что изменилось? Цензура негодовала. Ведь кое-кто может сказать: мол, может быть, «правительственные люди не те, что были, но они по-прежнему почти нули, такие же гнусные, как их предшественники». А раз император позволил опубликовать письмо Александра I, значит, он разделяет точку зрения своего покойного дяди. И что скажут те, которые и сейчас жаждут революции? А не упадет ли это тенью на правление ныне здравствующего государя?
Неожиданный ответ пришел из Лондона. Герцен и Огарев уже выпускают «Полярную звезду» и очень внимательны к судьбе декабристов. В своем «Разборе», отклике на дискуссии вокруг книги Корфа, Огарев написал: «Счастливо для памяти Александра I, что его письмо к Кочубею целиком помещено в книге Корфа. Как же господин статс-секретарь не понял из этого письма, что желание отречься от престола не было у Александра ни минутным раздражением, ни глупой романтической настроенностью?.. Не минутное раздражение, не романтическая настроенность влекли его удалиться, а живое отвращение благородного человека от среды грубой и бесчестной, в которую он, вступая на престол, должен был войти роковым образом…»
Для меня это исчерпывающий ответ. Но… во-первых, на совести Александра I жесткая расправа с Семеновским полком. Офицеров не арестовывали, но с солдатами поступили очень жестоко, а во-вторых, есть документы, о которых не знали в Лондоне ни Герцен, ни Огарев. За десять дней до смерти Александр все-таки отдал тайный приказ об аресте в Харькове Вадковского со товарищами. Думаю, этот приказ тяжело ему дался, здесь драма налицо. Александра есть в чем упрекнуть, но есть за что пожалеть.
Дела государственные и церковные
«Как подумаю, как мало еще сделано внутри государства, — говорил Александр в 20-х годах, — так эта мысль ложится мне на сердце, как десятипудовая гиря. От этого устаю». Он еще пытался что-то сделать для разумного управления Россией. Была идея — разделить всю страну на округа, в которые входили бы несколько губерний. Далее снять неспособных и малограмотных губернаторов числом в пятьдесят человек, а во главе восьми-десяти (сколько получится) округов поставить талантливых и энергичных администраторов. Для пробы он поручил генерал-адъютанту А. Д. Балашеву возглавить пять губерний (Рязанская, Тульская, Воронежская, Орловская и Тамбовская) и представить о том отчет. Отчет этот был не только не утешителен, он был страшен: «Отеческое сердце Ваше, Государь, содрогнется при раскрытии всех подробностей внутреннего состояния губерний… Не только воровство в городах, но только частые и никогда почти не отыскивающиеся грабежи на дорогах, но целые шайки разбойников приезжали в усадьбы, связывали помещиков и слуг, разграбляли домы… В селениях власть помещиков не ограничена, права крестьян не утверждены, а слухами повиновение к первым поколеблено и ослушаний тьма (вспомним «Дубровского»). Недоимок миллионы. Полиция уничтожена. Дел в присутственных местах кучи без счету, решают их по выбору и произволу. Судилища и судьи в неуважении подозреваются и в мздоимстве… Лучшие дворяне от выборов уклоняются… Хозяйственной части нет и признаку. Главные доходы короны основаны на винной продаже… и т. д». При такой ситуации — давай конституцию, не давай конституции — все одно. А заговорщики из Союза благоденствия думают, что все можно решить росчерком пера. Будто он сам, Александр, меньше их мечтает об отмене рабства! Огромная, неповоротливая Россия, дворяне корнями вросли в землю, они не отдадут крепостным ни пяди. А куда девать крестьян без земли — плодить новых Пугачевых?
В университетах творится непонятно что. Магницкий и Рунич с такой легкостью извратили главную идею, что диву даешься. И ведь все врут: мол, дела идут прекрасно, только неугомонный Георг Фридрих (Егор Иванович) Паррот, профессор из Дерпского университета, откровенно и безбоязненно пишет Александру обо всех безобразиях в науке. И как им всем помочь?
Очень сильное впечатление на Александра произвела встреча с монахом Фотием, которая состоялась в Каменноостровском дворце 5 июня 1822 года. Фотий был моложе Александра, а держался с ним как равный, говорил уверенно, витиевато, сложно, непонятно и от этого как-то особенно убедительно.
Александр жил в убеждении, что каждый имеет право верить во Всевышнего так, как он хочет. Главное — верить, именно об этой «внутренней церкви» все время говорил друг молодости князь Голицын. Бог мой, сколько он, Александр, молился, на коленях от долгого стояния образовались мозоли, а тут приходит маленький монашек и строго говорит, что все не так, что «внутренняя церковь» не более чем соблазн и легковерие, а главное — Православная церковь, и ничего другого!