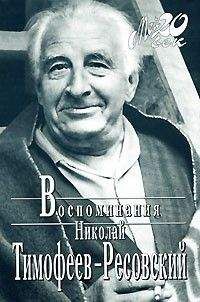Когда я все это распланировал и мы договорились с моими сотрудниками, что нам нужно, я обратился в три самых крупных немецких оранжерейных фирмы с письмом, что я предполагаю для такого-то института построить в Берлин-Бухе две спаренные оранжереи специально для разведения всякой всячины, мне нужной. И дальше происходило так, как раньше при постройке, например, железных дорог в России. Поставщикам устраивался конкурс. Составлялся примерный проект того, что нужно выстроить, и привлекались различные фирмы поставщиков, которые конкурировали, кто дешевле его выполнит, конечно, при соблюдении определенных качественных и количественных условий. В течение одной недели у меня побывали представители всех трех таких фирм. Они приехали уже с альбомами оранжерей, ими выстроенных, с примерными типовыми планами и проектами. Мы с ними позаседали. В конце концов я договорился, к счастью, как оказалось, с самой лучшей фирмой Редера в Дрездене. Она мне показалась самой толковой, и я заключил контракт.
В общем, я потратил на это изрядное количество времени в течение месяца: сначала всякие разговоры, вычерчивание плана, предложения и условия; еще одна неделя у меня ушла на рассуждения с фирмами и выбор, и за одну неделю избранная фирма представила окончательный проект. Как вы думаете, сколько еще ушло времени до того, как мы вселились в эти оранжереи с нашими культурами? Месяц! Месяц! У нас бы это полтора года продолжалось. Полтора года! Я знаю. У меня на атомном объекте значительно примитивнее две оранжерейки целый стройбат год строил по упрощенным буховским проектам, которые я по памяти восстановил. Год. А там — месяц. И никакого стройбата не было, а было какое-то небольшое количество рабочих.
Сверху оранжереи имели водяное охлаждение: вдоль, по коньку крыши, шла труба, и по бокам ее были маленькие отверстия, через которые пускалась холодная вода. И летом можно было на десять-пятнадцать градусов снизить температуру таким образом. Но это уже была забота садовника. Он же отоплением и охлаждением ведал. Так это шло, значит, круглый год с 28 года до 45-го. Семнадцать лет без всяких поправок, без ремонта. И до сих пор они там работают. Вот как дела делаются, ежели попросту, а не с фокусами нашими. Я уже теперь забыл точные цифры, стоило это гроши совершенно. У нас такие оранжереи построить в финансовом отношении немыслимая вещь, и подготовка вся потребует двух-трех лет. И осуществление полтора года минимум. А потом надо начинать ремонтировать и устранять недоделки.
В Бухе уже помещения было много, у нас стало просторно. Было достаточное количество лабораторных комнат, достаточное количество микроскопов и луп и, вообще, нужного оборудования, и начали появляться все новые и новые сотрудники. Штат мне увеличили в смысле денег. Надо сказать, что за границей-то удобно, конечно. У нас на жалование сотрудников — одна статья, а другая — на оборудование, аппараты и инструменты, третья — на командировки, четвертая — еще на что-нибудь. У нас считают, что все мы жулики, боятся, что украдем, поэтому семь подписей нужно на каждое дерьмо. Что на электронный микроскоп, что на фунт гвоздей — те же семь подписей. А при семи подписях вообще не известно, на ком это висит, электронный микроскоп или гвозди. И красть чрезвычайно просто. И проще всего раскрасть имущество казенное. Употребить в дело труднее намного. Во-первых, часто дела не бывает никакого, а имущество есть. Ну и во-вторых, чтобы на дело употребить, нужно работать, а у нас преимущественно не работают. А там таких сложностей, в сущности, нет. Я мог своей властью тратить деньги, скажем, брать сотрудников лишних, мог даже уволить ненужных сотрудников. Можно было хозяйствовать: и экономить, и рассуждать, как лучше деньги истратить. Например, мы из своего бюджета за два года сэкономили нужную сумму для приобретения первого в мире служившего для биологических целей нейтронного генератора уже в самом конце 30-х годов.
Ведь наше Отечество опять-таки уникальное в своем роде: это единственная страна не только в Европе, а и во всем мире, где нельзя экономить. Нам же все время говорят: «Экономьте государственные средства!» А куда их экономить? Не истратишь — отберут. И это еще полбеды. На следующий год меньше дадут, так что прямо хана и все. А там всего этого нет. У моего отдела был свой банковский счет, и ежели что-нибудь сэкономили — хорошо, значит на следующий год будет больше денег, а не меньше.
При этих легких условиях, которые, однако, во всем мире считаются не какими-нибудь достижениями, а совершенно нормальным состоянием вещей, очень просто было научным учреждениям хозяйствовать. Наша эта система, замечательная по сложности и, я бы сказал, своего рода бухгалтерской красоте, она ведь еще имеет нехорошую сторону — она развращает людей служащих. И чем выше рангом, тем больше развращается советский чиновник. А все советские люди — чиновники, потому что они все на казенных харчах, так сказать, состоят. Но тот, кто за что-то отвечает, должен ловчить, мудрить, глядеть, как бы что обойти. И получается чрезвычайно любопытная вещь. Все советские учреждения, в особенности научные, все время скулят: «Ах, хорошо буржуям, у них оборудование в институтах превосходное, у них денег на оборудование много. У нас лаборатории нищие». Врут! Все наши лаборатории, все наши институты забарахлены по первое число. Потому что покупается не то, что нужно, а то, что можно. Поэтому забарахленность наших научных учреждений совершенно фантастическая, особенно столичных, московских.
Теперешняя моя «косметическая» контора, в которой я имею честь состоять,— это на грани фантастики совершенной. Когда-то, пятнадцать лет тому назад, люди, руководящие в этой самой конторе, решили построить лабораторный комплекс, чтобы на Земле, на нашей планете проводить модельные эксперименты, подобные тем, что должны происходить в космосе. В космос тогда еще и Гагарин не летал, кажется, и вообще только разговоры были одни. И построили. На Хорошевском шоссе, где я работал, из моего окна видно, стоит замечательное здание — сплошное стекло, железобетон и прочее. И стоит, и стоит, и стоит. Обошлось оно пока только в двадцать шесть миллионов рублей. Миллионов рублей! Пока в нем ни гвоздя ни в научном, ни в техническом, ни в каком смысле не сделано. Но туда никого не пускают. На наши пропуска нужно какую-то особую птичку, чтобы в этот самый стеклянный дом войти. Можно и без птички, но тогда нужно с заднего входа. Так вот. Сейчас все самое высшее начальство этой «косметической» конторы нашей думает: угробили двадцать шесть миллионов, и что, выход-то какой? А угроблены они так талантливо, что делать разумного ничего нельзя в этом здании. Его нужно либо сломать и новое здание построить, либо затратить еще двадцать пять миллионов на переоборудование. И уже третий год самая трагическая проблема, которая висит над институтом,— что делать с этими похороненными двадцатью шестью миллионами.