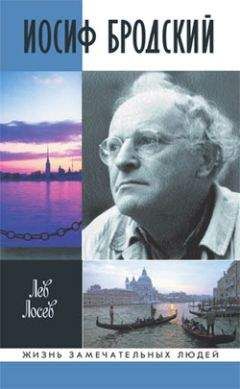Ознакомительная версия.
Последняя строка неоднократно варьируется в «Столетней войне» – в описании битвы. И смысловая многослойность «большого стихотворения» – от политической реальности до вечных проблем – была бы внятна современникам.
Не только ключевые понятия, слова-сигналы «Столетней войны» берут начало в ранних стихах, но и сама фигура главного героя. В 1962 году Бродский пишет несколько стихотворений о всадниках, с таинственной целью пересекающих земное пространство.
Кто там скачет в холмах… я хочу это знать,
я хочу это знать.
В «Столетней войне» по холмам скачет гонец, тщетно пытающийся предотвратить трагедию самоуничтожения людей…
Помимо всего прочего «Столетняя война» чрезвычайно важна для исследователей творчества Бродского еще и потому, что в ней пересеклись культурные импульсы, дающие представление о том, чем жил в это время поэт.
Известно восхищенно-завистливое отношение Бродского к «Божественной комедии» Данте. Уже цитированное его выражение «главное – это величие замысла», которое не раз повторяла в письмах к Бродскому Ахматова, восходит к известной характеристике Пушкиным именно плана «Божественной комедии». Чтение Дантова «Ада» постоянно ощущается в «Столетней войне»: и сами странствия гонца по равнине и холмам, покрытым грязью; и таинственный город, в который попадает гонец:
Увидел крепость. Въехал. Там закат
один царил на узких красных шпицах… —
рифмующийся с адским городом Дит, чьи башни окрашены «багрецом»; и поле битвы, где «мертвецы ушли по горло в снег», где все покрыто ледяным панцирем, – слишком напоминают тридцать вторую песнь «Ада» с ледяным озером, в которое вмерзли грешные души…
Но главное – в «Столетней войне» есть грандиозное описание преисподней, подземного царства, жутко-пародийно повторяющего надземный мир. Именно оттуда – еретический парадокс – появляется ангел, принесший некоему государю ложный, бесполезный мирный договор, ради которого гонец проделал свой тяжкий бессмысленный путь… Огромный ангел, пришедший оттуда, «где Тартар воет страшно», безусловно, восходит к апокалипсическим грозным ангелам Иоанна Богослова…
Начало шестидесятых годов – время наибольшего влияния на Бродского Пушкина. Быть может, именно пушкинские штудии Ахматовой сыграли в этом главенствующую роль. Любимой статьей Ахматовой в ее пушкинском цикле была статья о «Золотом петушке».
С «Золотым петушком» перекликается и «Столетняя война».
Быть может, одним из толчков к написанию «Столетней войны» стала поэма в прозе Райнера Рильке «Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке», которую Бродский в 1963 году читал и слушал в переводе К. Азадовского[56].
Песнь начинается так:
День и ночь в седле, день и ночь в седле, день и ночь.
В седле, в седле, в седле.
В «Столетней войне» пересеклись самые разные линии и влияния, важные в то время для поэта, и, будучи переплавлены его темпераментом и уникальным мировидением, привели к созданию сочинения, которое даже в незавершенном виде чрезвычайно много говорит об одном из путей, лежавших перед Бродским. Он не пошел этим путем. «Столетняя война» – последняя крупная вещь, построенная по принципу потока, напора несущихся на читателя слов и предметов, стержень которой – движение сквозь пространство. Но в «Столетней войне» содержались и те принципы, которые развиты в «Горбунове и Горчакове».
Система перекличек прочно объединяет «Столетнюю войну» с другими частями эпоса. Кроме многочисленных деталей, совпадающих строк, есть и черты более принципиальные. В финале странствий Исаака и Авраама появляется ангел, разрешающий трагическую коллизию. В «Столетней войне» ангел, явившийся из земных глубин, своим появлением в финале знаменует провал, неудачу миссии гонца, крушение надежды. В «Горбунове и Горчакове» отчаявшийся Горбунов тщетно призывает Бога прислать ему ангела. И это возвращает нас к наивно-пророческим строкам из «Пилигримов»:
И, значит, не будет толка
от веры в себя да в Бога.
И, значит, остались только
иллюзия и дорога.
В «Столетней войне» дорога оказывается бессмысленной, а иллюзия умиротворения оборачивается кровавой драмой.
«Столетняя война» завершается величественной, но горькой картиной бескрайнего моря, в котором люди-острова ищут «друг друга весь свой век во мгле». И тот же мотив моря как свободной, но недостижимой стихии, возникнув в «Исааке и Аврааме», проходит сквозь «Горбунова и Горчакова».
Последние строки «большого стихотворения»:
Одна земля, одна земля всегда
была у нас – и вот ее не стало.
Мы острова – вокруг одна вода,
и мы, склонясь, глядим в нее устало.
Что ж видим, братья. Кто в воде возник.
Что зрит вода в упорном нашем взгляде.
Как остров, в ней дрожит наш смутный лик,
и ветер гонит тучи в небе сзади —
с очевидностью восходят к первым строкам Ветхого Завета: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою».
Человек смотрит в водное зеркало, где должен отражаться Божий Лик, но видит только собственное одинокое отражение. Он остался один в мире.
Пафос и «Столетней войны», и «Горбунова и Горчакова» – крушение привычной спасительной иллюзии.
«Столетняя война» – рубежное сочинение. С 1964 года начинается новый период работы Бродского. Возможно, потому он и не вернулся к этому удивительному произведению. После вынужденного перерыва оно казалось ему пройденным этапом.
«Наше дело – почти антропологическое»
Сегодня в город прибывают варвары.
Константин Кавафис. «В ожидании варваров»
Летом 1988 года Иосиф Бродский писал автору этого текста в Россию:
«Нынешнее дело – дело нашего поколения; никто его больше делать не станет, понятие „цивилизация“ существует только для нас. Следующему поколению будет, судя по всему, не до этого: только до себя, и именно в смысле шкуры, а не индивидуальности. Вот это-то последнее и надо дать им какие-то средства сохранить; и дать их можем только мы, вчера еще такие невежественные… Изящная словесность, возможно, единственная палка в этом набирающем скорость колесе, так что наше дело – почти антропологическое: если не остановить, то хоть притормозить подводу…»
Собственно, работа в культуре всегда была борьбой за вочеловечение человека, отчаянной попыткой отбросить варварство, изначально присущее человеческой природе. Эту миссию людей культуры Иосиф Бродский ощущал, а затем и осознавал чрезвычайно остро.
Его переводческая работа была органической частью этой упорной тяжбы с варварством во всех его проявлениях – от политического деспотизма до агрессивной и низкопробной массовой культуры.
Ознакомительная версия.