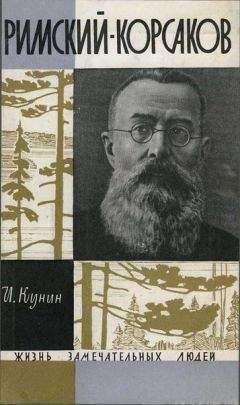Посередине коридора стоял столик со стулом, над ним висел шкафчик с лекарствами. Это был пост дежурной сестры. Санитарок или нянечек в мужском отделении было две — могучая и грубоватая тетя Клава и Авдотья-квадратная, неопределенного возраста женщина с сильно приплюснутым посередине носом и очень красным лицом по прозвищу Кнопка. Санитарок был явный недобор. Да и кому же хотелось идти на эту работу, да еще за 300 тогдашних рублей в месяц. Впрочем, недобор был и среди медсестер — ведь получали они всего в два раза больше санитарок, а ответственность было огромной, да еще приходилось выполнять множество дополнительных обязанностей. Врачей помимо Дунаевского было двое: Демьян Прокофьевич, жгучий брюнет с тяжелым взглядом и еще более тяжелой нижней челюстью, по слухам хороший специалист (да плохого Дунаевский и не стал бы держать), но человек очень жесткий, и молоденькая белокурая приветливая Раиса Петровна, которая сразу же вызывала симпатию, и я был очень рад, что именно к ней. Однако, когда за день до операции она во время утреннего обхода попросила меня зайти в процедурную, я почувствовал себя не очень хорошо, заподозрив неладное. Я не ошибся. Когда пришел, Раиса. Петровна сказала, что придется сделать повторную цистоскопию и тут же вколола в вену специальную синюю жидкость. Суть варварского, дикого по болезненности анализа заключается в том, что в мочевой пузырь вводят через канал стержень с небольшой электрической лампочкой на конце, а на другом конце стержня имеется зеркало. Врач включает лампочку и смотрит в зеркало, как скоро и с какой интенсивностью каждая почка сбрасывает синюю жидкость.
Кряхтя взобравшись на «козу», я жалобно попросил Раису Петровну:
— А нельзя мне ввести туда что-нибудь обезболивающее?
Она взглянула на меня своими ясными глазами и, поколебавшись, сказала почему-то вполголоса:
— Хорошо, но только с одним условием. Здесь нужно особое средство. У нас его очень мало, так что никому не рассказывайте.
Я клятвенно обещал хранить тайну, и Раиса Петровна действительно ввела мне шприцем какую-то бесцветную жидкость и через несколько минут приступила к анализу. Было больно, но не в пример тому, как в первый раз. Вообще вполне терпимо и во время этой довольно длительной процедуры мы говорили о русской поэзии и по просьбе Раисы Петровны я читал ей наизусть Гумилева и Георгия Иванова. Когда я, наконец, благополучно слез с «козы», Раиса Петровна сказала:
— Да, операция нужна и по крайней мере с этой стороны противопоказаний нет.
Я горячо поблагодарил ее, и далее, в порыве чувства признательности, поцеловал. Раиса Петровна покраснела:
— Ведь вы культурный человек, Георгий Борисович, разве вы не могли понять, что туда нельзя, да и некуда вводить обезболивающее. Я впрыснула вам дистиллированной воды. Это называется психотерапия.
Нужно ли удивляться тому, что после этих слов я поцеловал ее еще раз.
В палате меня между тем поджидали два безбутыльника, с которыми я уже успел свести знакомство. Один из них, лет сорока пяти, невысокий, с правильными чертами лица, был, что называется, на диво сложен. Даже наша дрянная больничная амуниция — халат и пижама, — выглядели на нем как-то элегантно. Чувствовалось, что он привык носить форму. Звали его Владимир Федорович и отличался он неизменной корректностью и сдержанностью. Он был капитаном дальнего плавания и ходил на своих сухогрузах по многим морям. Как-то неподалеку от берегов Англии у него внезапно начался приступ аппендицита, а судовой врач, как на грех, сам лежал с тяжелым сердечным приступом. Сухогруз срочно пришвартовался в Ливерпуле, и в местном госпитале ему немедленно сделали операцию. Он лежал на койке у окна, когда весьма плотный санитар влез на подоконник, чтобы перевесить штору.
— Смотрите, не свалитесь на меня, — пошутил Владимир Федорович.
— Ну, что вы, сэр, — улыбнулся английский санитар и тут же брякнулся прямо на Владимира Федоровича. Пришлось снова накладывать швы, но все в конце концов обошлось благополучно, и Владимир Федорович прилетел к порту приписки своего сухогруза Ленинград. Однако через несколько месяцев, с той стороны, где была сделана операция, у него появились ноющие боли. Рентген показал, что там находится какой-то посторонний предмет. Владимира Федоровича отправили в Москву, к лучшему хирургу-урологу Дунаевскому. Тот не медля положил капитана на операционный стол и извлек из него забытый во время удаления марлевый тампон, который, постепенно обызвестковываясь, твердел и причинял капитану такие боли. Второй безбутылочник, лет двадцати пяти-тридцати, рыжий неугомонный верзила Степа был боцманом на пассажирском пароходе «Россия», приписанным к одесскому порту. Он попал в больницу с тем лее, что и я, почему-то не доверяя своим одесским врачам.
Когда я все-таки рассказал им о психотерапевтическом сеансе Раисы Петровны, оба они смеялись, а Степа еще мечтательно и загадочно сказал:
— Эх, нам бы такую пташечку в катакомбы!..
— Ты же моряк-одессит, Степа, — с удивлением спросил я, — причем здесь какие-то катакомбы?
— А ты думаешь, что плоть и кровь Одессы Французский бульвар, Дюк и Дерибасовская? — усмехнулся он. — Нет, было время, когда они находились в катакомбах, — и больше на эту тему говорить не пожелал. Правда я и так понял, в чем суть…
Зная, что завтра операция, я все-таки нервничал, и в который раз обойдя все палаты, постучался в кабинет Дунаевского.
— Волнуетесь, — спросил он, жестом приглашая меня сесть.
— Дело не в этом, Лев Исаакович, — твердо сказал я, — а в том, что я очень прошу оперировать меня не под наркозом, а с местной анестезией.
Лев Исаакович ответил холодно:
— Вам предстоит тяжелая полостная операция. Такие операции делают только под наркозом. К тому же в почку никакого обезболивающего вводить нельзя.
— И все-таки, — продолжал настаивать я, — прошу сделать операцию с местной анестезией. Я нагляделся, как выворачивает наизнанку оперированных после эфира. Кроме того, у меня был перелом шейных позвонков, они срослись не совсем правильно и я должен постоянно контролировать дыхание, иначе могу задохнуться. В общем, или с местной анестезией, или я отказываюсь от операции.
Лев Исаакович, пожав плечами, ответил:
— Я сделаю все, что можно, но все равно будет больно. Очень больно.
— Спасибо, — обрадовался я и почему-то выпалил: — А как же это англичане, такие аккуратные люди, тампон в животе у Владимира Федоровича забыли?
Дунаевский, впервые за мое знакомство с ним, слегка улыбнулся и сказал: