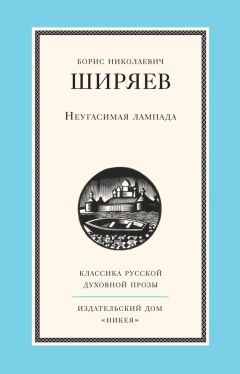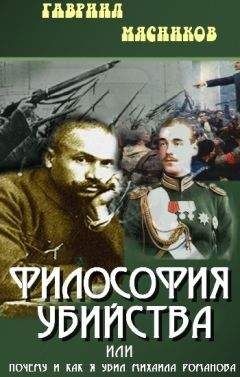Ознакомительная версия.
Эта пьеска называлась «Светлячки». Она была написана двумя не-поэтами: Н. К. Литвиным и автором этих строк. Мотивом послужила популярная тогда песенка о «Ню, смеявшейся весело и звонко». Пьеска была сценически оформлена и поставлена на первом спектакле ХЛАМа в 1925 году младшим режиссером 2-го МХАТ Н. М. Красовским.
Когда я заканчивал эту повесть о годах, проведенных на Святом острове, записывая ушедшее уродливое и прекрасное, ничтожное и величавое, безмерно униженное и неудержимо взметывавшееся ввысь прошлое, я прочел уже несколько измененные слова этой песни в повести Г. Андреева.
Г. Андреев был на Соловках позже меня. Он видел лишь некоторых из уцелевших соловчан «первого призыва». Подавляющее большинство уже погибло или рассеялось по разросшимся концлагерям, растворилось в мутных волнах новых «наборов». Но он видел там эту же пьеску, которая, потеряв свое имя, стала, как он отмечает, традицией.
Иные люди… Но песня та же. Почему? Потому, что в ней – мечта узника о свободе, та же мечта, что владела Петром, высекавшем на камне столба:
«До Вениции-града… верст».
Над островом завывала метель и тяготела тьма, а здесь, из рассеянной тьмы, выплывала ярко-оранжевая луна на синем тропическом небе и сказочный раджа, он же каторжник Ганс-Милованов, грохотал своим потрясающим басом на мотив из «Жрицы огня»:
Соловки открыл монах Савватий,
Был тот остров неустроенный пустырь.
За Савватьем шли толпы черных братий…
Так возник великий монастырь!
Край наш, край соловецкий,
Ты для каэров и шпаны прекрасный край!
Снова, с усмешкой детской,
Песенку про лагерь начинай!
Но теперь совсем иные лица
Прут и прут сюда со всех сторон.
Здесь сплелися быль и небылица
И замолк китежный древний звон…
Но со всех сторон Советского союза
Едут, едут, едут, без конца.
Все смешалось: фрак, армяк и блуза…
Не видать знакомого лица!
Край наш, край соловецкий,
Всегда останется, как был, чудесный край…
Раджу сменяла толпа веселых моряков, плясавших джигу и слушавших в тени банана песню-рассказ старого капитана:
Это было много лет назад.
Порт шумел в вечерний час.
Подошел ко мне слуга-мулат,
Дал письмо и скрылся с глаз…
В той стране, где зелены лианы,
В той стране, где губы дев так пряны,
Там под тенью манго и банана
Поцелуи призрачны и пьяны…
Не ту ли песню-мечту о свободных просторах и странах пели дерзостному юноше Петру изъеденные солью дальних морей капитаны заморских фрегатов?
Не в память ли ее он водрузил каменный столб?
– И снова свищет и беснуется вокруг столба снежная вьюга…
Над островом – тьма.
– До Вениции-града… верст…
* * *
Давно, 19 октября 1825 года, в жарко натопленной горнице скромного барского домика села Михайловского лицеист первого выпуска Александр Сергеевич Пушкин писал гусиным пером на листе желтоватой бумаги:
Роняет лес багряный свой убор;
Сребрит мороз увянувшее поле;
Проглянет день, как будто поневоле,
И скроется за край окружных гор.
Пылай, камин, в моей пустынной келье;
А ты, вино, осенней стужи друг,
Пролей мне в грудь отрадное похмелье,
Минутное забвенье горьких мук.
Ярко вспыхивали в печке еловые дрова. Проглядывал поневоле осенний день. Оживала пустынная Михайловская келья. «Минутное забвенье горьких мук» уносило опального лицеиста в те дни, «когда в садах Лицея он безмятежно расцветал»…
Через сто лет, 19 октября 1925 года, в жарко натопленной камере шестой роты первого отделения Соловецких концлагерей звучали те же слова. Ярко вспыхивали в печке еловые дрова. Проглядывал поневоле осенний день. Оживала пустынная Соловецкая келья. «Минутное забвенье горьких мук» уносило последних ссыльных лицеистов в те дни, «когда в садах Лицея»… и
Сладкая готовилась отрада
В обители пустынных вьюг и хлада…
«Спаси меня хоть крепостью, хоть Соловками», – писал Пушкин Жуковскому. Думал ли тогда опальный питомец Лицея, что вековые замшелые стены сурового монастыря замкнут и отрекут от мира многих из числа последних питомцев горячо любимого им «Царскосельского отечества», а безвестная братская могила – без креста и гробов, – не смыкавшая своего черного зева на каторжном кладбище, станет последним пристанищем некоторых из них? Мог ли он предположить, что пламенные слова его послания к друзьям юности прозвучат там ровно через сто лет и
Усладят мученья день печальный
И в день его Лицея превратят —
для тех немногих, кто среди непредугаданной поэтом, немыслимой даже для его гениального прозрения России останется верным традициям «царем открытого для них царицына чертога»?
Стремясь проникнуть в будущее своим вещим взором, Пушкин видел в тот день лишь того из своих однокашников, «кому под старость день Лицея торжествовать придется одному».
Мы не знаем, вспомнил ли эти слова «несчастный друг, средь новых поколений докучный гость, и лишний, и чужой», – переживший всех лицеистов Пушкинского выпуска светлейший князь Горчаков, но через 42 года после его смерти они с невыразимой трагической силой прозвучали в устах одного из последних питомцев Лицея – Кондратьева, в одной из келий ставшего каторгой Соловецкого монастыря, на потаенном собрании в день годовщины – 19-XI-1925 года.
Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен, —
писал Пушкин ровно за сто лет до этого дня, – и вечный дух величайшего из лицеистов витал среди последних из них, загнанных на суровый остров и отринутых обезумевшим народом, тем, в котором «чувства добрые он лирой пробуждал».
Их было немного. Всего 12–15 человек, и страшною правдою прозвучали слова:
Еще кого не досчитались мы?
Чей глас умолк на братской перекличке?
Кто не пришел? Кого меж нами нет?
Так спрашивал поэт немногих уцелевших, собравшихся в день Лицея «в обители пустынных вод и хлада», устами каторжника-лицеиста Кондратьева.
* * *
Каждый год начинавшаяся в мае навигация приносила на Соловки новые наслоения. Они отражали, как капля воды – океан, процессы, происходившие на одной шестой мира.
Сначала большинство прибывающих составляли офицеры. Потом – крупные партии повстанцев: среднерусских, украинских и окраинных, грузин и народов Средней Азии – туркмен, узбеков, «фанатиков», как прозвала их шпана. В разгар НЭПа – контрабандисты, валютчики, проститутки и нищие, получившие за свою голодную жадность к еде кличку «леопарды».
В 1925 году красный Ленинград добивал остатки Императорского Петербурга: прибыли «дипломаты» – чиновники министерства иностранных дел, «фараоны» – бывшие полицейские, рядовые и служившие в департаменте, и лицеисты.
Ознакомительная версия.