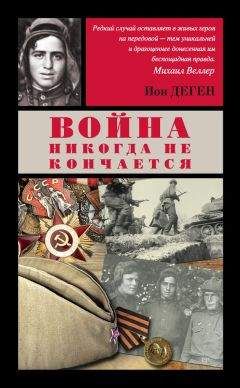Я тихо выбрался к стене крепости, три раза дернул канат, – так мы договорились с Менаше, – и он поднял меня наверх.
Рабби кричал на меня. А ясновельможный пан обнял меня на виду у поляков, глядевших с изумлением на эту сцену. Уже нет ни Менаше, ни рабби.
Вечером он собрал нас в синагоге. Он сказал, что рано или поздно поляки откроют ворота, что лучше нам самим убить наших женщин и детей, чтобы они не погибли в муках и позоре, когда крепость сдадут украинцам, что мы должны убить друг друга, а последний должен покончить жизнь самоубийством.
Я посмел возразить рабби. Зачем кончать жизнь самоубийством? Лучше погибнуть в бою с украинцами.
Но рабби сказал, что это может повредить евреям в других городах. Согласно ультиматуму поляки обязаны выдать жидов. Мы должны пойти на это, чтобы не повредить евреям в других городах.
С детства я привык к таким словам. Когда на нас нападали польские мальчишки, родители не разрешали нам дать им, как мы умели, чтобы не разгневать поляков и не повредить евреям.
Скоро рассвет. Кроме меня, в крепости не осталось ни одного живого еврея. Только Господь знает, чего мне стоило убить рабби. Кто-то из наших убил мою Фейгеле и маленького Давида.
Я еще не решил, что применить – кинжал или пистоль. И все-таки рабби не прав. Один еврей не помешает полякам выполнить требование ультиматума. Кроме кинжала и пистоля у меня еще есть канат.
Я укрепил его на уже ненужном блоке и бесшумно спустился в холодную темноту.
Самоубийство ли это? Можно ли назвать самоубийством смерть в бою, даже если цель этого боя – самоубийство?
Одиннадцать убитых казаков и еще двое покалеченных – результат боя, в котором он не надеялся уцелеть. Он даже не хотел этого. Условия не давали ему возможности уцелеть. Но и в этих условиях у него была свобода выбора.
Частный случай. История одной души. Души, даже не заметившей разницы в поведении евреев и поляков, разницы, которая определяется не свободой выбора, а моралью народа.
За три часа до рассвета меня вызвал к себе комбат. Я околевал от холода. Шинель не самое удобное обмундирование для танкиста. Я оставил ее в наших тылах. Гимнастерка поверх свитера. Меховая безрукавка. Днем еще куда ни шло. Но сейчас, ночью! Поэтому стакан водки, которой угостил меня комбат, оказался очень кстати. Правда, если майор угощает водкой лейтенанта – значит, за угощением последует какая-нибудь гадость.
Так оно и было. Ни пехоты, ни артиллерийской подготовки. Моя так называемая рота с десантом мотострелков должна продвинуться как можно ближе к Раушену. Оборона в конце атаки, если еще будет кому обороняться. Обеспечение боеприпасами и горючим, взаимодействие с соседями – все на авось.
Гвардии майор понимал, что это преступление. Гвардии майор понимал, что и я понимаю, хотя не задал ему ни одного вопроса. Гвардии майор понимал, что стакан водки – недостаточная плата человеку, посылаемому на смерть. Была бы хоть рота как рота. А тут…
Ровно восемь суток назад, 13 января, началось наступление. За всю войну я не видел такой артиллерийской подготовки. Два километра фронта в течение двух часов беспрерывно обрабатывали пятьсот орудий, не считая минометов и «катюш».
Шестьдесят пять танков нашей отдельной гвардейской танковой бригады ринулись в атаку.
Проходы в минных полях обеспечивали двадцать один танк-тральщик.
Два тяжелотанковых полка – сорок два танка ИС – шли вслед за нами, а за ними – два самоходно-артиллерийских полка – еще сорок две машины со стопятидесятидвухмиллиметровыми орудиями.
Задача прорыва для такой силищи была довольно скромной: к концу дня занять Вилькупен, всего-навсего одиннадцать километров от переднего края.
Эту задачу мы выполнили только 16 января, на четвертые сутки наступления.
Сейчас, к началу девятых суток, от всей силищи остались шесть «тридцатьчетверок», две «иэски» и четыре самоходки. Двенадцать несовместимых машин из разных частей втиснули в одну роту, и меня, не знаю за какие грехи, назначили командиром этого сборища.
С «тридцатьчетверками» я еще как-то справлялся. Это были люди хоть из разных батальонов, но из нашей бригады. Командиры двух «иэсок» смотрели на меня с высоты своего тяжелотанкового величия. Командиры самоходок цитировали боевой устав, согласно которому они должны находиться не менее чем в четырехстах метрах за линией атакующих танков.
Я не мог поплакаться даже своему экипажу. Ребята были на грани полного физического истощения. Одно желание – спать. Кроме того, я постоянно должен был скрывать свои страхи. Не дай Бог кому-нибудь заподозрить, что еврей – трус.
Я прошел мимо кухни. Экипажам выдавали завтрак. Мои, оказывается, уже получили. Но повар предложил мне стакан водки и котлету.
Тыловики любили меня. Экипажи были недолговечными. А тыловики оставались все те же, которых я застал после первого моего боя в бригаде. Им нравились мои стихи. Грустные стихи о войне.
Мне хотелось сочинять другие. Мне хотелось, чтобы стихи были такими, как у настоящих советских поэтов – героическими, призывающими, гневными. Но в стихах были кровь, и грязь, и страх, который так тщательно я пытался скрыть от всех. В стихах я был обнаженный, как новорожденный.
Вот и сейчас я чувствовал, как из меня рвутся стихи. Два стакана водки согрели меня. Снег скрипел под сапогами и диктовал ритм. Стихи снова были не такими, какие хотелось бы мне услышать. Но я остановился, чтобы записать вырвавшееся из меня четверостишие.
Я расстегнул меховой жилет. В кармане гимнастерки не оказалось ручки. На всякий случай я проверил второй карман. Нет. Холодный страх саваном окутал все мое существо. Предвестник несчастья.
Ручка не была трофеем. Красивую перламутровую ручку еще летом подарил мне взятый в плен гауптштурмфюрер. Именно подарил. Я не отнял ее у него. Ручку я хранил, как талисман. И вот – талисман исчез.
Я залез в танк, стараясь не показать ребятам, что чувствую, как тяжелая рука рока подбирается к нашему горлу.
Почему в течение почти четырех лет войны я не излечился от трусости?
Почему только еврей должен так тщательно скрывать эту трусость?
Лобовой стрелок расстелил брезент на снарядных чемоданах и разложил еду. Механик-водитель стал щедро разливать водку из бачка. Водка была у нас не только пайковая. Такими трофеями мы не пренебрегали. Я посмотрел в кружку и подумал, не будут ли лишними этих двести граммов. Но я не успел решить. Командир орудия прикрыл ладонью свою кружку, как только механик собрался наклонить над ней бачок. Не надо. Я мусульманин. Перед смертью не хочу пить водки.
Мы переглянулись. Стреляющий, пьянчуга, весельчак и мистификатор, на сей раз не разыгрывал нас…