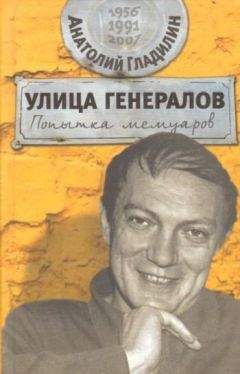Нет, это невозможно, подумал Говоров, никакого отношения к В.П. это не имеет. Вика сейчас сидит где-ни-будь в кафе, потягивает пиво, потешается над нами, дураками, — вон как ловко он всех разыграл… А вообще, есть над чем посмеяться. Самсонов собирается толкать на похоронах речугу! Где совесть у человека? Выгнал
В.П. из «Вселенной», пытался испортить ему жизнь на Радио, а теперь рвется в лучшие друзья! А что мне делать, не устраивать же свару на паперти? Понимаю, у семьи, у Гали и Вити, сложные отношения с Самсоновым. И они хотят русское кладбище. Престиж! Но ведь это обязательное подселение в «чужую могилу»! Вика говорил, что в случае чего предпочел бы около дома, на Ванв… Конечно, решает семья. Ты в этом не участвуешь. Тогда все публичные представления без меня. Ты не придешь на похороны, и таким образом для тебя Вика не умер. Сидит в кафе у Версальских ворот, уехал в Женеву, в Австралию, скоро вернется. Будем ждать.
Надо лишь предупредить Витю, объяснив тем, что завтра приезжают девочки и заказана квартира в Ментоне. Витя поймет. Разумеется, в русском Париже пойдут разговоры, особенно возмутятся во «Вселенной» — вон, дескать, каков лучший друг… Но Говоров полагал, что если для чего-то и нужны колокольни, то именно для того, чтоб с них плевать на общественное мнение.
Теперь я часто приезжаю в Москву, и иногда, на радио или в газетах, мне задают ехидный вопрос:
— Анатолий Тихонович, вы довольны своей работой на «вражеском» радио? Ведь вы развалили «империю зла». Вы ожидали награды?
— Меня наградили.
— Чем? Американским орденом? Большой денежной премией?
— Одной фразой.
— Какой? И кто ее сказал?
— У Виктора Некрасова было много друзей. В Америке, в Израиле, в Европе. Оказавшись в Париже, они приходили к нему в гости. Некрасов их встречал хлебосольно, а они, пока много не выпили, с беспокойством его расспрашивали, дескать, Витя, как и на что ты живешь? Ведь возраст, и трудно работать, и американцы, говорят, опять сокращают бюджет? Витя смеялся и повторял им одну и ту же фразу: «Пока Толя Гладилин сидит в Париже, я и моя семья могут жить спокойно».
Так вот, для меня эти слова — высшая награда. Выше всех орденов и премий.
Я опять обращаюсь к своей книге «Меня убил скотина Пелл». В приводимом ниже отрывке рассказывается об американском издательстве «Ардис», которое на свой страх и риск создали американские слависты — супруги Эллендеа и Карл Профферы. В самые темные, беспросветные годы «холодной войны» Профферы издавали всю запрещенную в СССР прозу и поэзию (Мандельштам, Ахматова, Цветаева, Булгаков, Ходасевич, Платонов, Зощенко — вот такой ряд). Причем политика их абсолютно не волновала. Критерий был один — высокий литературный уровень. Карл и Эллендеа печатали не только классику, они помогали и нашей эмиграции так называемой третьей волны. Василий Аксенов, Саша Соколов, Юз Алешковский, Лев Копелев, ваш покорный слуга — вот авторы «Ардиса». Без них издательская судьба — а следовательно, и известность — Иосифа Бродского и Сергея Довлатова тоже была бы совершенно иной. Именно они выпустили в свет три первых знаменитых сборника Бродского, по их инициативе книги были переведены на английский.
Каждый лауреат Нобелевской премии по литературе имеет право пригласить на торжественную церемонию одного из своих издателей. Бродский пригласил Эллендею (Карла в то время уже не было в живых).
В рассказе «Туман в Анн-Арборе» моя реальная встреча с Эллендеей дана в романтической дымке. Говоров, мой герой-протагонист, так сказать alter ego, называет Эллендею Хозяйкой и — напомню, что это все-таки художественное произведение — разбавляет историю выдуманными подробностями, на которые так падки сволочи-писатели.
Со стороны, наверно, все выглядело интригующе и даже заманчиво. В аэропорту Детройта меня ждала высокая, красивая и молодая американка в шубе из какого-то дорогого зверя. Мы поцеловались и пошли к ее машине. Несмотря на то что руки мои были заняты чемоданами, я старался не горбиться, ступать уверенно, словом, соответствовать ситуации и мировым стандартам: деловой, скажем даже, несколько преуспевающий мужчина в командировке, приятная встреча…
Я надеялся, что по дороге увижу — для коллекции — и небоскребы Детройта или (что там у них есть?) хоть какой-то светящийся силуэт центра, но мы сразу свернули на хайвей и поехали прочь от города. Огни остались в аэропорту. Казалось, хайвей был проложен по черносерой пустыне, где ничто не растет и не шевелится, и лишь на самом шоссе призрачно плавали, нарастали и со свистом проносились мимо фары встречных машин. Потом и они исчезли. Мы уперлись как бы в стену тумана, который, отступая, тормозил ход машины. Мы осторожно пробирались, как самолет через плотную облачность. Мотор ровно урчал, машина подрагивала, мы явно куда-то ехали, но фары нашей машины высвечивали туман, туман и еще раз туман, мы как будто застряли в нем. Мы потеряли где-то реальный мир, мы дрейфовали вне времени и пространства, и я бы не удивился, если бы мы оказались в центре Саргассова моря или, как по мановению волшебной палочки, туман вдруг растворился и перед нами возник бы плакат: «Трудящиеся Тульской области приветствуют дисциплинированных водителей».
Наконец я стал замечать по бокам и чуть выше какие-то мерцающие светлые пятна. Мы совсем сбавили скорость. Пошли повороты, свидетельствующие о том, что мы прибыли в город. Однако опять мерцания по бокам погасли, туман загустел, навалился. И только я подумал, что, видимо, не избежать нам встречи с Саргассовым морем, как машина остановилась.
— Приехали.
Над входом в радужном кругу плавился фонарь, дом нависал черной массой, и, хотя мы были в двух шагах от дома, определить его очертания я не мог.
В этом доме… Стоп. Цитата из Пушкина. У меня уже была цитата из Блока («красивая и молодая»). Боюсь, что с нарастанием в геометрической прогрессии художественной литературы без цитат не обойтись. Ведь в конце концов будут перепробованы все словесные сочетания. Поэтому предлагаю всем писателям честно признаваться в невольном плагиате и брать пример хотя бы с шахматистов. Шахматисты, разбирая свою партию, без тени смущения пишут: «Сначала была разыграна защита Нимцовича (уже цитата), до двенадцатого хода мы повторяли партию Ботвинник — Бронштейн, чемпионат СССР 1952 года (еще одна цитата), потом мой противник выбрал вариант, впервые примененный Спасским против Петросяна в матче на первенство мира», — и т. д. и т. п. Правда, меня могут заподозрить в некотором кокетстве, дескать, вот фрукт, помнит наизусть «Евгения Онегина», — уверяю вас, это не кокетство, а элементарная порядочность. Дело в том, что если наши родители вольно или невольно занимались «всеобщей электрификацией всей страны» (В.Ленин), то на долю моего поколения выпала всеобщая радиофикация. Культуру в приказном порядке спускали в массы. Массы не противились, массы (вопреки мнению злостных антисоветчиков) активно ее принимали. Допустим, если, садясь в поезд, я не успевал резким движением вывести из строя усилитель динамика, то мне в купе были гарантированы до полуночи: «Где ж вы, где ж вы, очи карие», «Не нужен мне берег турецкий», «О баядерка, ты не любишь меня». Радио орало на полную мощь в парикмахерских, на рынках, в мастерских бытового обслуживания, в общих номерах гостиниц, на площадях в районных центрах, в столовых, на улицах во время первомайской демонстрации и народных гуляний и ежедневно у соседа за стеной. Спасительная пауза наступала разве что, пардон, в уборной, когда дергал за ручку водосливного бачка. Однако когда бачок успокаивался, тебя опять настигала ария Ленского в исполнении Козловского или Лемешева: «В этом доме узнал я впервые радость чистой и светлой любви». Поэтому при такой культурной радиоинтенсификации я просто был обречен запомнить на всю жизнь не только «Артиллеристы, Сталин дал приказ», но и всю русскую поэтическую классику, которую доносили до самых низов (включая и сортирных) народные артисты СССР, солисты Большого театра, Государственный хор имени Пятницкого и Краснознаменный ансамбль песни и пляски Советской армии.