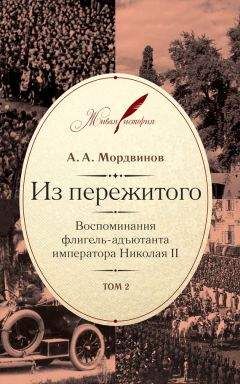Разделавшись в 1762 и 1764 годах с обоими законными императорами и оттеснив в сторону конкурента-сына, Екатерина продолжала ощущать неустойчивость своего положения. В апреле 1765 года французский дипломат доносил в Париж: «Малейший вид чего-нибудь опасного страшно пугает императрицу. Но она часто путается того, в чем нет ни малейшей тени вероятия» [9, л. 262 об.]. Вероятия — да. И тем не менее…
Концентрируя внимание на действительно трагической судьбе «несчастнорожденного» Ивана Антоновича, многие исследователи и писатели упускают из виду холмогорских пленников. Между тем оставался еще в живых глава этой семьи Антон Ульрих (он умер в 1776 году), были живы и два брата экс-императора — Петр (1745–1798) и Алексей (1746–1787) и две его сестры — Екатерина (1741–1807) и Елизавета (1743–1783). Рассказ об их не менее печальной судьбе увел бы нас далеко от темы повествования. Но нужно подчеркнуть, что существование этих принцев, как бы усердно оно ни скрывалось, доставляло Екатерине определенные беспокойства. И основания к тому отчасти имелись. Например, английский посланник Букингем сообщал 14 сентября 1764 года своему правительству: «Некоторые лица хотят предложить императрице освободить членов брауншвейгского семейства и назначить детей наследниками на случай кончины великого князя, здоровье которого очень слабо» [9, л. 262 об.]. Реакция Екатерины II на подобные советы могла быть однозначной — усиление и без того строгой изоляции холмогорских арестантов. Только в 1780 году Екатерина II решилась наконец на высылку четырех принцев и принцесс из России (по договоренности с Данией они нашли последнее пристанище в ютландском городе Горсенсе).
Но вернемся к политической ситуации в Петербурге летом 1762 года, когда Екатерина вступила на престол, а Иван III был еще жив. Связанные с ним, но почти угасшие в брауншвейгских правящих кругах надежды снова оживились. В делах местного государственного архива сохранился относившийся к тому времени примечательный документ. Он называется «Проект скорого возвращения на русский трон его императорского величества Ивана, которое в нынешних обстоятельствах может быть осуществлено без больших затрат для Брауншвейгского дома с помощью Франции таким образом, что никто, кроме самой Франции, не окажется в убытке» [36, л. 41–42]. В письмах, поступавших в Вольфенбюттель из Москвы, где осенью 1762 года происходили торжества по случаю коронации Екатерины II, приводился набор фактов и слухов, долженствовавших показать общую неустойчивость режима: недовольство Екатериной, слабое здоровье великого князя Павла, рост настроений в пользу Ивана, вплоть до возможного бракосочетания с ним самой императрицы. В письме от 18 октября сообщалось, что «имя императора Ивана окружено большим почетом очень большой части нации, которая, скорее, не желает подобного альянса» [36, л. 59, 60].
В очередном письме от 4 ноября говорилось о раскрытии заговора гвардейцев для свержения Екатерины и «превращения этой империи в республику», то есть в выборную монархию, причем «одни делали ставку на принца Ивана, а другие на великого князя» (Павла Петровича) [36, л. 61]. Сведения такого рода подтверждаются и другими современными им источниками. Примечательно, что в те же дни в Петербург поступило донесение из Вены от 3 ноября/22 октября, согласно которому Фридрих II будто бы строил планы возвести на российский престол Ивана Антоновича [1, 1762 г., № 399, л. 131–146 верхн. паг.]. Все это отражало не столько определенную заинтересованность зарубежных сил, сколько общую политическую неустойчивость режима Екатерины II.
Действительно, с самого начала сосуществование двух законных претендентов — Петра и Ивана — в государственных расчетах и в обыденном сознании и в России, и за рубежом рассматривалось в качестве своеобразного политического противовеса: увеличение шансов одного из них автоматически влекло за собой уменьшение шансов другого. Но при любой комбинации для Екатерины места не было. Давно уже стало ясно, что решение коллизии, порожденной петровским указом 1722 года, лежало на путях силы, а не права, поскольку иначе чем силой право не могло утвердиться. И Екатерина поставила между силой и правом знак равенства. Иными доводами для захвата и удержания власти она не располагала. Но над моральными последствиями своих действий она не была властна…
«Что за зрелище для народа, — приводил А. И. Герцен слова тогдашнего французского посла в Петербурге, — когда он спокойно обдумает, с одной стороны, как внук Петра I был свергнут с престола и потом убит, с другой — как правнук царя Иоанна увязает в оковах, в то время как ангальтская принцесса овладевает наследственной их короной, начиная цареубийством свое собственное царствование» [63, т. 14, с. 372–373].
Среди многих пикантных и двусмысленных намеков, содержащихся в «Записках» Екатерины Алексеевны, описание ее свидания летом 1752 года «на острову» с Сергеем Салтыковым оказалось чуть ли не ключевым для последующей трактовки темы отцовства Петра Федоровича. Почему Екатерина сочла необходимым рассказать о деталях давней встречи? Что стремилась она внушить своим будущим читателям? Вот это описание: «Около этого времени Чоглоков пригласил нас поохотиться у него на острову. Мы выслали вперед лошадей, а сами отправились в шлюпке. Вышед на берег, я тотчас же села на лошадь, и мы погнались за собаками. Сергей Салтыков выждал минуту, когда все были заняты преследованием зайцев, подъехал ко мне и завел речь о своем любимом предмете. Я слушала его внимательнее обыкновенного. Он рассказывал, какие средства придуманы им для того, чтобы содержать в глубочайшей тайне то счастие, которым можно наслаждаться в подобном случае. Я не говорила ни слова; пользуясь моим молчанием, он стал убеждать меня в том, что страстно любит меня, и просил, чтобы я позволила ему быть уверенным, что я, по крайней мере, не вполне равнодушна к нему. Я отвечала, что не могу мешать ему наслаждаться воображением сколько ему угодно. Наконец он стал делать сравнения с другими придворными и заставил меня согласиться, что он лучше их; отсюда он заключал, что я к нему неравнодушна. Я смеялась этому, но, в сущности, он действительно довольно нравился мне. Прошло около полутора часов, и я стала говорить ему, чтобы он ехал от меня, потому что такой продолжительный разговор может возбудить подозрения. Он отвечал, что не уедет до тех пор, пока я скажу, что неравнодушна к нему. "Да, да, — сказала я, — но только убирайтесь". — "Хорошо, я буду это помнить", — отвечал он и погнал вперед лошадь, а я закричала ему вслед: "Нет, нет!" В свою очередь он кричал: "Да, да!" И так мы разъехались. По возвращении в дом, бывший на острове, все сели ужинать. Во время ужина поднялся сильный морской ветер; волны были так велики, что заливали ступеньки лестницы, находившейся у дома, и остров на несколько футов стоял в воде. Пришлось оставаться в дому у Чоглоковых до двух или трех часов утра, пока погода прошла и волны спали. В это время Сергей Салтыков сказал мне, что само небо благоприятствует ему в этот день, дозволяя больше наслаждаться пребыванием вместе со мною, и тому подобные уверения. Он уже считал себя очень счастливым, но у меня на душе было совсем иначе. Тысячи опасений возмущали меня; я была в самом дурном нраве в этот день и вовсе не довольна собой. Я воображала прежде, что можно будет управлять им и держать в известных пределах как его, так самою себя, и тут поняла, что то и другое очень трудно или даже совсем невозможно» [86, с. 106–107].