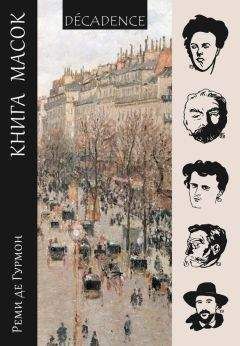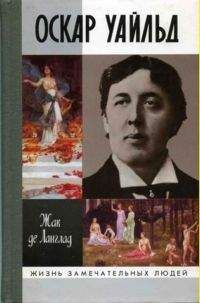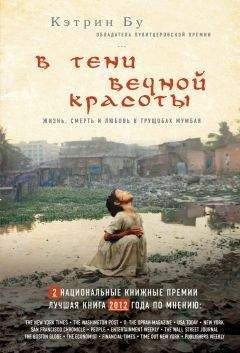Ознакомительная версия.
Как беспристрастные наблюдатели, без определенных верований, без социальных убеждений, они идут в жизнь, храбро подставляя грудь мечу. После удара они отмечают свое ощущение. Таким образом, у них образуется запас достоверных свидетельств, непосредственную правдивость которых они испытали на самих себе. Записи эти хранятся у них в мозгу или спрятаны в коробке. Отсюда они черпают свои знания, когда нужно описать ощущение действующего лица, подобное тому, какое они пережили сами. Какие-нибудь невольные признания, крик естества в человеке, знаменательная ценность улыбки, взгляда, жеста – все воспринимают они с полным вниманием. Желая воспроизвести в своей элементарной правдивости язык детей, они заставляли себя целыми днями неподвижно просиживать на скамье Тюильри, застыв в притворном сне, чтобы не спугнуть чирикающих воробьев. Оба они страстно любили подслушивать у дверей жизни. Они искали тайн, как ищут маленьких раковин в песке дюн. Переживший брата Эдмон Гонкур до последнего часа сохранил потребность знать все, что происходит, смотреть в окно, поднимать шторы и занавески. Все, что не могло логически уместиться в романах, стало содержанием «Дневника» – этой огромной памятной книги писателя-реалиста.
Реалистом называют писателя, который перерабатывает кропотливые наблюдения над обычной жизнью. Но писатель, который является только реалистом, лишь наполовину и даже меньше чем наполовину романист. Это стало ясно видно тогда, когда реализмом начал пользоваться жалкий Шанфлери. Как метод, реализм выдуман романтиками. В подражание Гете, они хвалились тем, что в их творениях правда смешана с поэзией. Позднее одни из них, оберегая только культ поэзии, через Мюссе дошли до Октава Фелье, а другие, откинув всякую поэзию, идя от Стендаля, пришли к сухому анализу Дюранти. Но последнего никакие усилия не могли поднять из могилы. Между тем Флобер, не выносивший никакого реализма, продолжал традиции Шатобриана. Гонкуры возобновили и обновили настоящий романтизм, романтизм Бальзака. Если подойти к их произведениям вплотную, если припомнить «Renée Mauperin»[236], «Soeur Philomène»[237] или даже трагическую «Germinie Lacerteux»[238], то придется признать, и когда-нибудь это признают наверное, как бы парадоксально это ни казалось после надгробной речи Золя, что Гонкуры были романтиками. Эдмоном Гонкуром, написавшим «La Faustin»[239], завершается цикл, начатый Бальзаком.
Ни в одном из их романов, начиная с «Charles Demailly»[240] и кончая «Chérie»[241], нет никакой аффектации бесчувственности, холодной иронии, свойственной последующим произведениям почти всех учеников Золя. В них замечается даже склонность к жалости и нежности, доходящей до сдержанной и чистой сентиментальности. «Renée Mauperin» – книга, полная скрытых слез. «Soeur Philomène» рождена чувством. Если освободить этот роман от наносного реализма, который загромождает и искажает его, то после «Atalà» он был бы самой трогательной и чистой историей любви. Тут метод помешал гению. Но гений и традиция победили метод.
Продолжая прежний литературный период, Гонкуры в братском союзе с Гюставом Флобером начинают в то же время и новый. Когда появилась «Germinie Lacerteux», Золя смотрел, как играет луна в лазурных водах реки, окаймленной ивами, как купается Нинон, нежно напевая баркаролу. Бесполезно настаивать: весь натурализм в его общедоступной форме ведет свое происхождение от «Germinie Lacerteux». Это сильное и смелое произведение было только эпизодом в целой эпопее Гонкуров. Вслед за ним вышла «Manette Salomon»[242], потом «Madame Gervaisais», произведение, дающее чрезвычайно острый анализ болезненного мистицизма. Однако, история истеричной служанки имела самое решительное влияние на дальнейшее развитие натурализма, как понимали его Золя и его непосредственные ученики.
Владычество Гонкуров простиралось не только на одну школу. За исключением, может быть, Вилье де Лиль Адана, не было писателя, который не подпал бы под их влияние на протяжении двадцатилетия с 1869 до 1889 г. Орудием их власти был стиль.
К Гонкурам применяют потерявшее ходкость выражение: «художественное письмо». Они, несомненно, создали его и, таким образом, стали врагами всех тех, кто лишен собственного стиля и, конечно, всех работающих наспех журналистов, чье ремесло в том, так сказать, и состоит, чтобы не «писать». Писать по примеру Гонкуров – значит ковать новые метафоры, начинать фразу только неиспользованными образами или образами, переработанными и насильно измененными в лаборатории собственного мозга. Писать – значит еще многое другое и, в особенности, это значит иметь особый дар и особенную чувствительность. Но усилием воли и трудом можно приобрести почти самостоятельный стиль, естественно развивая в себе свойственную каждому человеку способность выражать свою мысль словами. Найти фразы, еще никем не использованные и, в то же время, ясные, гармоничные, верные, живые, очищенные от всякого ораторского пустословия, от общих мест, фразы, в которых даже самые обыкновенные слова, как музыкальные ноты, приобретают определенную ценность, помещаемые на известных местах, фразы немного вымученные, с искусно введенными вставками, которые сначала сбивают с толку, но потом, когда улавливаешь тон и механизм аккорда, чарующие слух и ум, фразы, которые движутся, как живые существа, дышат восхитительной, им внушенной жизнью, как создания какого-то магического искусства: такова задача литературного стиля.
Если отведать этого вина, то уже не захочется более пить обыкновенного настоя мелких писателей.
Если бы Гонкуры могли стать популярными, если бы понятие стиля проникло в средние умы! Говорят, у афинской толпы это понятие существовало.
Кроме оригинальности стиля и литературного, исторического и художественного значения Гонкуров, нельзя не удивляться их плодовитости. Это относится и к тому из них, который продолжает свою деятельность и поныне. Это не обычная и обильная жатва строк, собранных в снопы бесконечных книг, не плодовитость Жорж Санд, подобная плодоносному труду социального животного, но творчество разумное и целесообразное. Это целый ряд созданий, намеченных сознательною мыслью среди всех возможных концепций, созданий разнообразных, в которых Гонкурами не упущено ничто существенное, ни один из плодов от древа жизни. Действительно, самые прекрасные продукты, разнообразные по форме, цвету и вкусу – все это собрано в их произведениях: о человеке, о вещах, о жизни они сказали все, что могли сказать, сказали методично, следуя тайному плану, вероятно составленному в первые же годы работы. Оставшись один, Эдмон Гонкур завершил общее дело произведениями, которые, при известных недостатках, обладают и крупными достоинствами. «La Faustin» и «Chérie» доказывают, что оба брата обладали гением, и что умерший завещал оставшемуся ту часть этого гения, которую он мог бы унести с собой в могилу. Как бы то ни было, второй из Гонкуров был несколько менее суров и подчинялся правилам реализма с меньшим раболепием. В произведениях, подписанных им одним, тон ровнее, нежность глубже, жалость человечнее. Мало найдется книг столь трогательных, как «Братья Земганно»[243], и мало найдется книг более проницательных, чем «Проститутка Элиза»[244]. Страницы, на которых он высказывает свой ужас перед безмолвием этих мест публичного заточения, заставили бы уничтожить это отвратительное учреждение, если бы мы были народом, способным еще к элементарным чувствам милосердия.
Ознакомительная версия.