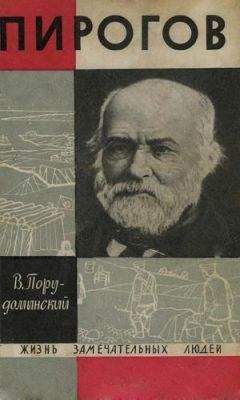— Я бомбардирую их так же, как бомбардируют Севастополь.
Пирогов здесь не для того, чтобы снискивать популярность между чиновниками. Он холуйской арифметике не обучен. Вот вам рапорт, господин главнокомандующий. Четыреста раненых в день. В день — четыреста! Так-то!
Пирогов разделил сестер в каждой дежурной смене на перевязочных, аптекарш и хозяек. В руках сестер оказались продукты и медикаменты, чай, сахар, вино, пожертвованные вещи. Комиссары взвыли: сестры-де внесли беспорядок… Пирогов сверял отчеты.
— Воры! Доказать?..
Аптекарей лихорадило. В Херсоне сестры ревизовали госпитальную аптеку — передали дело в суд. Аптекарь, не дожидаясь суда, застрелился. Пирогов хохотал:
— Ай да слабый пол!
Пирогов на войне вел две войны. С неприятелем, осадившим Севастополь. И с неприятелем, осевшим в Севастополе. Один бил по нему ядрами и бомбами, прямым попаданием разнес комнату, в которой жил Пирогов (благо, в отсутствие хозяина). Другой палил в спину картечью клеветы, помех, пакостей. Пирогов с мальчишества умел драться, умел побеждать: не силой — упорством и смелостью.
Пирогов докладывал начальнику штаба главнокомандующего:
— В госпитальных палатках — свинство.
Возражения генерала пресек:
— Вы в этом смыслите меньше моего…
Пирогов писал важному чиновнику, задержавшему снабжение госпиталей дровами: «Имею честь представить на вид…» За дерзкое, «неприличное» обращение к высокому лицу Пирогов получил вместо дров выговор от главнокомандующего и даже от государя.
Пирогов являлся в кухни, вместе с сестрами отмерял по норме продукты и… запечатывал котлы. Пирогов пробирался в цейхгаузы, обнаруживал то «затерянные» палатки, то сотни «позабытых» одеял. Вытаскивал из складских тайников, пускал в дело.
Нахимов сказал однажды без тени улыбки, совсем серьезно:
— Распорядился я своею властью выдать раненым со складов восемьсот матрацев. Глядишь, и под суд отдадут. После войны.
С неприятелем, засевшим в штабах и комиссариатских ведомствах, Пирогов боролся не только делом, но и словом. Перо ученого, поэта, очеркиста приобрело в огне Крымской войны алмазную крепость и остроту.
«Севастопольские письма» Пирогова адресованы жене, но личного в них мало. В них вся правда о Севастополе. Не для «душки» и «несравненного ангела» Александры Антоновны исписывал Пирогов десятки листов бумаги. Ночью, после трудного дня. На рассвете, после трудной, у операционного стола, ночи. Он и не скрывал этого: «Письмо о Меншикове можешь дать прочесть теперь всем». Иногда лишь опасался: «Прочитав написанное, я сам испугался, что уже слишком много сказал правды».
Но Пирогов не только обличал. С его умением анализировать, сопоставлять, обобщать он как ученый оценивал все увиденное в Севастополе. И, убедившись, что ни к чему все искусные операции, все способы лечения, если раненые и больные поставлены администрацией в такие условия, которые вредны и для здоровых, вывел одно из главнейших положений своей военно-полевой хирургии: «Не медицина, а администрация играет главную роль в деле помощи раненым и больным на театре войны».
Администрация Севастополя была едва ли не злейшим врагом Севастополя. «Страшит не работа, — писал Пирогов, — не труды, — рады стараться, — а эти укоренившиеся преграды что-либо сделать полезное, преграды, которые растут, как головы гидры: одну отрубишь, другая выставится».
И все-таки борьба Пирогова не была безнадежной. Мало, что он сам драл шкуру с аптекарей, запечатывал котлы, шарил по складам… В осажденном городе он читал крымским врачам курс лекций, учил работать по-пироговски — вот что главное! С передовых перевязочных пунктов, с позиций приезжали врачи к Пирогову, ходили с ним по госпиталям, приглядывались к его порядкам и нововведениям — по всему театру войны разносили пироговское слово и дело. Со временем вся работа крымских медиков стала отголоском, отражением деятельности Пирогова. И тогда-то громада двинулась! И тогда-то Пирогов получил право сказать:
— Все, что я в состоянии был делать, я сделал для Севастополя…
Но не было рамок для Пирогова, и, сказав: «Я сделал, что мог», он тут же искал, что еще может сделать. Он твердо решил по оставлять Севастополя, пока приносит пользу или (добавлял горько) пока не выгонят.
Его гнали — он не уезжал. А полезен ли он, не тем было судить, кто гнал.
Не чины ловить, не ордена клянчить явился Пирогов в Севастополь. Не у чинораздатчиков искал он признания.
Когда солдат, которому он только что отрезал ногу, доставал из тряпицы два рубля и один протягивал Пирогову: «Возьми половину добра моего…» — это была награда почище ордена Станислава или Анны. Когда на перевязочный пункт приносили солдата без головы, а голову отдельно: «Пусть господин Пирогов пришьет — он все может!» — это было признание повыше генеральского благоволения.
Нет, не мог Пирогов покинуть Севастополь!..
18 февраля 1855 года почил в бозе самодержец всероссийский Николай I. Повсюду говорили, будто не своей смертью почил — отравился. Будто после неудачи под Евпаторией призвал любимца своего доктора Мандта и потребовал яда. Не пожелал пережить позора, в котором сам же больше всех был повинен. Мандт дал царю не мифический «атомистский» порошок — одарил сильнодействующим и полной мерой. Мандта быстрехонько — от шума подальше — вывезли за границу. На прощанье поднесли «за труды» осыпанный бриллиантами портрет высокого, его покровителя и друга Николая Павловича (Мандт злился — просил, чтобы наградили деньгами). Известного анатома Венцеслава Грубера, проявившего слишком большой интерес к протоколу вскрытия царского тела, засадили на время в крепость. В Севастополе Пирогов заглянул к госпитальному аптекарю, тот возился с каким-то ящиком, только что присланным по почте. Приподнял крышку и снова захлопнул. Процедил иронически: — Опоздал…
В ящике были отправленные в Крым по царскому повелению лекарства доктора Мандта. Царь умер, и вместе с ним умерла шарлатанская «атомистика».
После евпаторийской неудачи князя Меншикова сменил князь Горчаков. Горчаков был не менее бездарен, чем Меншиков, но зато такой же прирожденный аристократ — белая кость, голубая кровь. Меншикова в армии не любили, солдаты называли: «Изменщиков». Над Горчаковым просто смеялись — над его фантастической рассеянностью (о нем говорили: «человек вовсе без головы»), над его слепотою и глухотою, и над его невнятной речью, и над его любимой песенкой. «Je suis soldat français» («Я французский солдат»), — бурчал себе под нос русский главнокомандующий. Пирогов именовал Меншикова «старой мумией», «филином». Горчакова — «развалиной», «козлом, от которого ни шерсти, ни молока». Севастополь от такой замены ничего не выиграл.