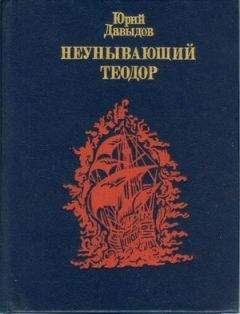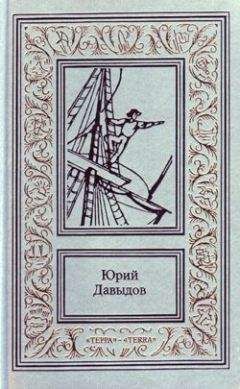А в версальском зале пировала королевская гвардия. Топтала трехцветную патриотическую кокарду, нацепляла белую, королевскую, дамам прикалывала на платье белые королевские лилии. В разгар оргии Людовик вернулся с охоты. Пирующие обнажили шпаги: «Государь, разгоним чернь!»
Звон версальских бокалов отозвался парижским набатом.
Лотта увидела толпы женщин. Кричали о заговоре версальцев, намеренных покончить с Национальным собранием. Кляли короля и королеву, королеву злее и непристойнее. Кричали, что короля со всем его выводком надо привезти в Париж, как заложников, и пусть-ка аристократы шевельнут мизинцем.
Затрещали барабаны, солдаты вышли из казарм. Женщины простирали руки: «Дайте нам оружие!» Солдаты смеялись: «Ступайте в ратушу! Берите даром!»
Раздобыв оружие в Отель де Виль, тысячи женщин устремились на площадь с конной статуей Людовика XV. Этот сладострастник говаривал: «После меня хоть потоп», — и вот потоп запруживал площадь, где в девяносто третьем гильотинируют его внука.
Оттуда, с площади, по очереди впрягаясь и катя пушку; тоже захваченную в ратуше, двинулись через весь город, к заставе, к дороге на Версаль.
День был холодный, то грозно блистающий осенней синью, то грозно шумящий проливным дождем. На лафет вскакивала, размахивая саблей, Теруань де Мерикур, амазонка революции — шляпа с большим пером, талия стянута широким кавалерийским ремнем, голос сильный и звонкий: «Мы победим!»
Шествие миновало заставу и, обретая стройность, устремилось по дороге на Версаль. Из задних рядов передавали, что следом идут ремесленники и грузчики во главе с великаном Журденом, мясником Крытого рынка, известным парижанам по кличке Головорез. На Лотту он всегда производил неприятное впечатление — воплощенная кровожадность, — но теперь она была рада, что этот Головорез тоже направился в Версаль.
А национальные гвардейцы все еще оставались в городе. Они пререкались со своим начальником маркизом Лафайетом. Герой американской войны, похвалы которому не однажды слетали с уст Теодора, медлил с приказом о выступлении. Он сел на коня лишь после того, как услышал: «В Версаль или на фонарь!»
Лафайет пришел в Версаль поздним вечером, а там уже с четырех пополудни гремело: «Хлеба! Хлеба!»
Все началось у дворцовой ограды, сквозь которую виднелся огромный двор с отрядами лейб-гвардии и еще каких-то полков.
Женщины приблизились к начальнику караула.
— Пропустите нас, господин офицер.
— Это невозможно, — надменно ответил лейтенант. — Да и не к чему.
— Надо бы потолковать с королем.
— Чего вы хотите от его величества? — брезгливо осведомился лейтенант.
— Сущего пустяка: пусть подаст в отставку.
Раздался хохот: «В отставку! В отставку!»
И парижанки в замызганных юбках сплясали сарабанду. Еще не отдышавшись, крикнули:
— Ну и довольно, ребята! Отворите, мы пойдем к нему.
Караул не двигался.
— Не хотят, — пронеслось над толпой. — Не хотят!
— Ну так глянем на них в подзорную трубу!
Толпа расступилась.
Жерло пушки, облепленной дорожной грязью, уставилось на гвардейский караул. В толпе, пришедшей из Парижа, была и прислуга, но только не артиллерийская. Никто не управился бы с этой пушкой, да она и не была заряжена. Однако караул внезапно открыл огонь.
Лотта будто оглохла. К ногам ее упала девушка, передник мгновенно набух кровью Лотта отшатнулась, ее затолкали, завертели, едва ие сшибли, и вот уже ее несло, как в ревущем потоке, — на караул, на ограду, на дворец.
— Хле-е-еба! — прокатилось под дворцовыми окнами.
— Хле-ба, хлеба, — дробилось о дворцовый фасад.
— Хлеба-а-а-а, — взлетело выше дворцовой крыши.
А там, во дворце, тряслась губа королевы: «Решайтесь! Надо же решиться…» Король мямлил: «Осторожно… Необходима осторожность…» Наконец он решился, но совсем не на то, чего требовала королева: принял депутацию.
Потом говорили, что при виде короля депутация оробела. Людовик ободрился: мегеры оказались нестрашными. Он приобнял одну из них и велел передать товаркам, что король прикажет накормить своих добрых подданных.
Тем временем в рядах лейб-гвардейцев все громче раздавались призывы покончить с «рыночными торговками» и «парижскими шлюхами». Однако солдаты других полков, совершенно не считаясь с обстоятельствами, позволили себе роскошь дискуссии о средствах достижения «победы над бабой». Все соглашались, что холодным оружием ее, шельму, не проймешь; несогласия и притом резкие обнаружились в рассуждениях на тему, что предпочтительнее: ружье или пушка? — первое быстрее перезаряжается, зато удар второй мощнее. Бесспорным же было то, что лейб-гвардейцы не дождутся поддержки этих двух полков, недавно расквартированных в Версале.
Но вот вернулась депутация. Посулам его величества никто не поверил.
— Король врет!
— Австриячку — на вертел!
— Хлеба! Хлеба!
Стемнело. Полил дождь, деревья зашумели. Слышалась перебранка лейб-гвардейцев с армейцами. Мелькали огни. Около полуночи прибыли парижские национальные гвардейцы. Спешившись, Лафайет отправился во дворец.
— Вот явился Кромвель, — зашипели придворные. — Он обезглавит короля.
— Кромвель не явился бы один, — обиделся маркиз.
Лафайет заверил Людовика в своем желании избежать крови. Ваше величество, надо взбрызнуть огонь мятежа водой уступок. Пусть лейб-гвардия, увы, ненавистная народу, покинет дворец, а караулы займет Национальная гвардия. И тогда он, маркиз Лафайет, ручается за безопасность их величеств. Людовик вяло согласился. Во втором часу ночи дворец затих.
Дрожа от сырости, Лотта прикорнула под какой-то аркой рядом с оранжереей. Отошедший день был днем движения, действий. Лотту поглощало чувство единения, согражданства, а теперь, в сырой версальской тьме, это чувство, поникнув, съежилось; Лотта ощутила усталость и беспомощность. Она забывалась тяжелой дремотой, пробуждаясь внезапно, пугалась так, словно сейчас умрет, потом опять дремала, поникнув и ежась.
И вдруг вскочила, словно ее ударили по лицу.
— Ага! — воскликнул тот, кто направил на нее фонарь.
Сердце Лотты билось неровно, быстро.
— Мадам, — сказал тот, кто держал фонарь, — не бойтесь, это я, Максим.
Белым днем в Париже Лотта сразу признала бы драгуна, одного из гостей Каржавина в отеле «Иисуса», но сейчас, здесь, признала не сразу, а Максим уже набросил на Лотту свой мундир, заставил вдеть в рукава и весело приказал: «Вперед, мадам! Наши уже там!»
Лотта очутилась на плохо освещенной дворцовой лестнице, услышала топот и голоса и, еще не понимая, что же, собственно, происходит, прониклась давним, позабытым детским азартом, с каким бежала вверх по крутым склизким ступенькам, когда Теодор, он же разбойник Мартен, беспощадный мститель за бедняков, брал штурмом Пале-Бурбон и, оглядываясь на Лотту, патетически шептал об ортоланах, воробьиных филе, лакомстве вельмож. А драгун Максим опять рассмеялся: «Скорее! Мы опаздываем в театр!»