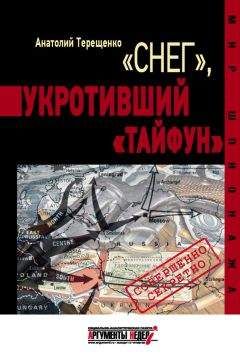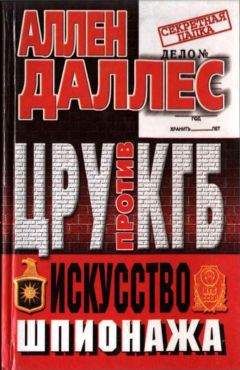В отличие от своих коллег по КГБ, Якушкин происходил из знатного рода, ни один представитель которого после Октябрьской революции не пострадал. Он был правнуком декабриста. В двадцатых годах некоторые родственники Якушкина примкнули к большевикам. У него была аристократическая внешность и нос с горбинкой, как у римского патриция. Он был лидером по натуре и никогда не сомневался в своем успехе. Однако в самом начале служебной карьеры потерпел фиаско. Он начал ее в Министерстве сельского хозяйства и вскоре убедился, что это не его стезя. Потом каким-то образом оказался в Комитете государственной безопасности и стал быстро подниматься по служебной лестнице. Вскоре его направили в Нью-Йорк на весьма приличную должность в Советском представительстве при Организации Объединенных Наций. Вернувшись в Москву, Якушкин стал заместителем начальника американского отдела, а осенью 1971 года возглавил британско-скандинавский отдел.
Мне довелось познакомиться с ним, когда он был уже седовласым джентльменом, и вскоре я узнал, что в момент раздражения его баритон выдает неожиданное фортиссимо. Первая стычка с ним у меня произошла чуть ли не сразу. Однажды рано утром я, собираясь на работу, слушал передачу Би-би-си, из которой узнал, что датское правительство решило выдворить из страны трех советских шпионов, работавших в Копенгагене под видом дипломатов. В девять часов утра, придя на службу, я сразу же позвонил одному из сотрудников, занимавшемуся Данией, и сообщил эту новость.
— Ты об этом слышал? — спросил я его.
— Нет, — ответил тот. — Мы получили телеграмму, в которой говорится, что вопрос о высылке наших дипломатов датскими властями еще не решен. Так что мы надеемся на лучшее.
Пять минут спустя на моем столе зазвонил телефон. Я поднял трубку и услышал громоподобный голос:
— Товарищ Гордиевский!
Затем высота звука в телефонной трубке немного понизилась.
— Если Вы и дальше намерены распространять в стенах КГБ слухи о выдворении наших сотрудников из Дании, то будете строго наказаны!
Эта угроза в мой адрес прозвучала так резко, что кое-кто из моих сослуживцев, присутствовавших при этом, с тревогой воззрились на меня.
А по телефону меня отчитал никто иной, как Якушкин, и в свойственной ему манере. У меня не было никакого сомнения в том, что сотрудник, которому я только что сообщил новость, услышанную мною по Би-би-си, сразу же доложил о моем звонке Якушкину, а тот, испугавшись, что в случае высылки из Дании его подопечных он будет снят с должности, пришел в ярость. А через несколько часов на стол начальника британско-скандинавского отдела легла телеграмма из Копенгагена, которая подтверждала услышанную мною новость. Вскоре мне стали названивать «европейцы-западники» и извиняться передо мной. Звонили многие, однако Якушкина среди них не оказалось. У него вообще была странная манера реагировать на происходящее. Позвонил он мне только через десять дней и уже нормальным, спокойным голосом вежливо произнес:
— Товарищ Гордиевский, будьте добры зайти ко мне. Я сразу же явился к нему в кабинет. При моем появлении взгляд Якушкина подобрел, и он тут же ошарашил меня своим вопросом:
— Вам не хотелось бы поработать в моем отделе?
— Да? — рассеянно произнес я и только потом сообразил, что он предлагает мне перейти к нему в отдел.
— Я всегда мечтал работать у Вас и с огромным удовольствием поехал бы снова за границу, особенно в Осло или Стокгольм.
— Нет-нет, — сказал Якушкин. — Мне нужен человек в Копенгагене. Там требуется восстановить нашу резидентуру, а Вы говорите по-датски. Я уже навел справки в Первом главном управлении и пришел к выводу, что Вы самый подходящий для этого человек — у Вас датский язык. Кроме того, Вы, насколько мне известно, хорошо зарекомендовали себя в работе с агентами и умеете ладить с людьми.
От волнения сердце мое забилось, в голову полезли разные мысли. Мне больше хотелось попасть в другую страну, но я знал, что жить в любой стране Запада гораздо лучше, чем в Москве. Кроме того, в глубине моего сознания теплилась надежда на то, что там, на Западе, я смогу вступить в контакт с кем-нибудь из британской или американской разведслужбы.
Сдержав охватившую меня радость, я спросил Якушкина:
— А как вам удастся забрать меня из Управления С? Вы уверены, что генерал Лазарев меня отпустит?
На это Якушкин с присущей ему самоуверенностью высокого начальника ответил, словно отрезал:
— Это уже моя забота!
Из его кабинета я вышел, окрыленный надеждой.
Затем, как и следовало ожидать, воцарилась мертвая тишина — шли за неделей неделя, а подвижек в моей карьере не следовало. Наконец, спустя полтора месяца после нашего разговора с Якушкиным, мы случайно встретились с ним в коридоре, и я, подойдя к нему, спросил:
— Кстати, что с вашим предложением? Оно все еще остается в силе?
Он слегка смутился — ему стало неловко, что при всем его высоком положении забрать меня в свой отдел ему не удалось.
— У меня ничего не получилось. Этот проклятый Лазарев тебя не отпускает, — признался Якушкин.
В конце концов, мы решили, что мне самому следует подать заявление с просьбой генералу Лазареву перевести меня в другой отдел. Обычно такая тактика ничего, кроме вреда, самому просителю не приносит. Представьте себе подчиненного, который приходит к своему начальнику и говорит:
— Извините, но мне не нравится работать в вашем управлении.
Естественно, что любой начальник воспримет это как личное оскорбление.
В моем случае подобное заявление было бы последней надеждой сменить работу, и как ни печально это сознавать, но в значительной степени на положительное решение моего вопроса повлияла смерть моего брата.
Василько некоторое время был болен. Находясь в командировке в Юго-Восточной Азии, он заразился гепатитом Б, и его доставил в Москву один из членов группы Нагаева, обслуживавшей нелегалов. Несмотря на то, что ему запретили потреблять алкоголь, он тем не менее продолжал выпивать, и каждый раз, навещая его, я видел, что ему становится все хуже и хуже. Хоть мы и знали, что он тяжело болен, однако его смерть в мае 1972 года потрясла меня. Ему было всего тридцать девять лет.
Поскольку Василько был офицером, похоронили его со всеми воинскими почестями, включая оружейный салют. Когда началась панихида, я неожиданно вспомнил о Мише, слепом музыканте, женившемся на дочери женщины, у которой мы в пятидесятых годах снимали дачу.
Потеряв зрение на фронте, Миша даже не знал, насколько некрасива его жена. У них родился ребенок, и, похоже, они оба были счастливы. Когда, будучи еще совсем молодым, этот музыкант умер, мы с братом пришли проводить его в последний путь. Тогда по дороге к крематорию Василько сказал мне: