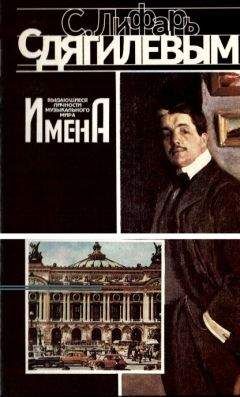Я уже писал об этом и по-прежнему полагаю, что это верно: воспитанный с детства на Глинке и Бородине, я был равнодушен к русским композиторам. Я отзывался на некоторые страницы «Бориса Годунова», но в целом Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков оставались мне чужды. Думаю, потому, что я не находил у них того, чем меня восхищали Пушкин и Моцарт,— легкости, прозрачности. Самым удивительным мне кажется, что только сегодня я их по-настоящему узнал и полюбил.
Когда я думаю о «Тристане и Изольде», «Мейстерзингерах» или «Парсифале», то затрудняюсь сказать, какую их этих трёх опер предпочитал, но я не мог без них жить, грезя ими по ночам. Я бредил также Чайковским, который всегда был мне очень близок и чьи оперы «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» мне были уже знакомы. Дебюсси, Равеля и Стравинского я ещё вообще не знал.
Музыку я любил всегда. Одной из самых больших моих радостей было часами сидеть за фортепиано, нанизывая друг на друга любимые музыкальные отрывки. Я находил в этом, как и в книгах, то полное упоение, которого мне не давала жизнь. Я долгое время мечтал о карьере виртуоза. Вплоть до одного дня, когда после оккупации города белыми войсками вновь атаковали большевики. Белые армии были вынуждены отступить. Но генерал Драгомиров решил бросить в бой пятьдесят воспитанников гимназии, включая и меня. Я был зачислен в 34-й сибирский полк, который был удостоен чести получить из рук генерала Бредова крест Святого Георгия — наш военный орден. Мы одурели, сражаясь одни вопреки очевидности. Большевистские пулеметы трещали. Дождь свинца сметал всё живое. Вдруг рядом с нами с чудовищным грохотом разорвался крупнокалиберный снаряд. Оглушенный мощью взрывной волны, я с трудом осознал, что оказался заваленным песком, сыпавшимся со всех сторон. Я почувствовал сильную боль в правой руке и увидел, что она вся в крови. Мой брат Василий спас меня из этой бойни, а большинство моих товарищей погибло...
Едва прошел страх и я вспомнил о виденной крови, первой моей мыслью было: «Моя рука! Как я буду играть на рояле? Останусь ли я калекой на всю жизнь?» Когда город пал, меня тайком выхаживали с помощью добытых по случаю медикаментов, чтобы не вызывать вопросов по поводу происхождения моей раны. Осколок снаряда так сильно разворотил мою руку, что её пришлось зашивать. А когда я начал приходить в норму, возникла гангрена. Понадобилось вскрыть рубец и возобновить лечение. Разглядывая шрамы, оставшиеся от этой операции по сей день, я возвращаюсь мыслью к тому дню, когда бесповоротно определилось всё моё будущее: я должен был отказаться от мечты стать музыкантом. Моё фортепиано — я помню, с каким волнением обретал его вновь,— с тех пор стало разве что моим другом, наедине с которым я вновь проводил долгие часы в мечтаниях, освобождаясь от переизбытка моей энергии. В этой любви к музыке были, конечно же, и беспокойство, и смятение — я это вижу сегодня,— и ещё горечь от того, что я был брошен на погибель. Для кого? Зачем? Я не могу не склонить головы перед бесполезно погибшими. И всё же с теми годами для меня неразлучны также нервный импульс, стремление найти свою жизненную цель. Теперь-то я знаю, что, только пройдя через всяческие смуты и страстные стремления, удаётся обрести внутренний покой.
Парадоксальным образом случилось так, что наш город Киев, сотрясаемый в те 1919—1920 годы войной, был не менее «обласкан» и в плане художественном. Сначала это было верно по отношению к прошлому. Столица Украины всегда гордилась собой как маленькой столицей искусств. Театральный сезон был в глазах моих родителей символом искушений, способных навредить слишком юному зрителю. Я помню только, как разрастались мои чувства от «Кина» [А. Дюма-отец: Кин, или гений и беспутство – ред.] — первой драмы, которую мне позволили увидеть, «Пиковой дамы» Чайковского — первой оперы — и ещё больше от концерта, который великий Шаляпин дал в нашем городе. Я тонул в волнах звуков и красок, меня захлёстывал дикий восторг. Вначале полагали, что Киев может быть пощажён гражданской войной. Увы! Так не получилось. Но многие, спасаясь от зверств в Петрограде и Москве, приехали в наш город. На какой-то момент здесь воцарилась атмосфера, я бы сказал, несколько «зюдистская» [sudiste – фр. – сторонник юга, относящийся к южанам (во время войны между северными и южными штатами Америки) – примеч. переводчика], более мягкая, склонная к праздникам из страха перед приходившими одна за другой войнами. Киев стал переходным местом, лагерем гражданской войны и лагерем для каникул — танцем на вулкане, который соответствовал веселому и артистическому нраву наших соотечественников. К тому же самого блестящего из моих однокурсников в консерватории, заявившего о себе на выпускных концертах, звали Владимир Горовиц.
Весной 1920-го у моего отца и у нас со старшим братом Василием, служившим в белой армии, были все основания скрываться от ЧК. По крайней мере, как можно скорее обезопасить себя. И тогда мы спрятались в лесах, отдалённых от города. Мы жили в диких местах, где царила тревожная тишина. Мы надели рубахи из сурового полотна и отпустили волосы. В Киев я возвращался только тайком, чтобы поддерживать связь с семьёй.
Однажды мы прибыли в поселок Тараща. Там находился на привале отряд красных всадников, совершавших переход. Чтобы повеселиться, они устраивали танцевальные вечера для себя и местных жителей. Танцы под духовой оркестрик заканчивались гомерическими попойками. Когда великороссы пускались в удалую «Камаринскую», а украинцы с воодушевлением и восторгом отплясывали гопак, я следил за их движениями. Мощь и сноровка были в этом фольклорном искусстве, открытом позднее благодаря ансамблю Моисеева. Их скачки и падения, вихревые вращения наподобие волчка заставляли биться моё сердце. А потом эта буря неожиданно сменялась медленными, грациозными движениями. Я с жадностью следил за танцующими. Во мне происходила внутренняя работа, что-то ещё неосознанно изменялось при виде этих инстинктивных движений, не очищенных искусством.
Так мало-помалу я шёл навстречу самому себе. Во мне накапливались силы, и, чем больше их было, тем мне становилось тоскливее. Не тогда, когда я оставался с моими друзьями — книгами и фортепиано, но тогда, когда я вновь погружался в то, что называют нормальной жизнью. Никогда ещё эта жизнь не казалась мне столь тусклой, достойной презрения. Молодости всегда свойственно стремление к порядку, строгости и к тому, что их создает. Я имел такое стремление, смею утверждать, в большей мере, чем другие. А вокруг меня было лишь ужасающее зрелище общества, разрушавшего само себя. Это был крах сознания, девальвация всех ценностей. Осмеянная религия разлагалась. Взрослые тонули в разврате. Я вспоминаю одну фразу, всё ещё звучащую в моих ушах: «О! Для меня жизнь вполне хороша, если есть немного любви и дюжина сигарет!» Это действительно было правилом и высшим пределом для целого мира, сбившегося с пути.