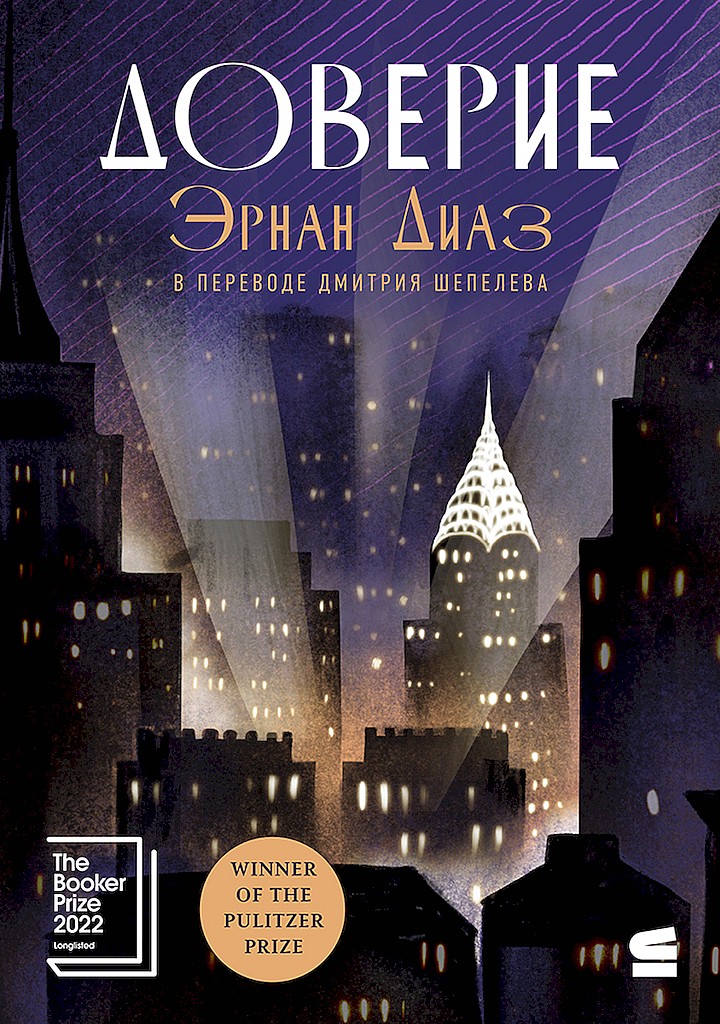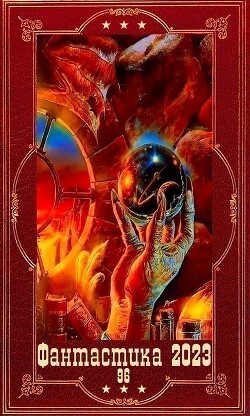с собой из Европы ничего, кроме самых необходимых вещей; а может, она хотела начать жизнь с чистого листа.
Я достаю первый ежедневник-календарь с бордовой обложкой и мраморными обрезами. «Пьюси и компания, Западная 123-я и 42-я улица, Типографы и книгоиздатели. Четырнадцать плоскопечатных машин работают без перебоя». Отец терпеть не мог плоскопечатных машин.
В течение первого года Милдред, похоже, старается заполнять страницы в ежедневнике, даже если мало чем занимается и почти не выходит. Страницы расчерчены: каждые сутки отмечает линия и прямоугольники для утра, ланча, дня и вечера. Постоянно пишет «дома». Чувствуется ее скука. Иногда встречаются «примерки», но опять-таки «примерки дома».
Как и сказали библиотекарши, почерк у нее ужасно неразборчивый. Тот факт, что в ежедневнике всего горстка повторяющихся слов, помогает освоить ее каракули. «Л» почти неотличима от «м», а «ш» и «т» совершенно одинаковы. «Б» как зеркальная «Д». Я помечаю это, понимая, что расшифровать более длинные тексты будет сложнее. В ее почерке есть что-то руническое.
Я вдруг вспоминаю, что в «Обязательствах» Ваннер описывает дневники, которые Хелен Раск вела днями и ночами во время нервного срыва, и задаюсь вопросом, разобрала бы она из будущего собственный почерк.
И хотя я надеюсь найти в одной из этих коробок настоящие дневники, большинство ранних документов ничего особенного собой не представляют. В течение первых месяцев Милдред, похоже, предпринимает несколько попыток войти в общество. Упоминаются вечера с миссис Каттинг, миссис Бартрам, миссис Кимболл и миссис Туичелл — я отнюдь не уверена в правильной расшифровке всех этих фамилий. Несколько раз Милдред встречается с группками женщин, включающих и вышеназванных. Несколько «званых завтраков», несколько походов к стоматологу. Но ее усилия становятся все более обрывочными, и в итоге Милдред, похоже, просто перестает как наносить визиты, так и принимать своих новых знакомых. Заброшенные ежедневники. Анемичные адресные книжки. Тем не менее последние снабжены алфавитным указателем, который помогает разобрать своеобразный почерк Милдред. Я начинаю отслеживать варианты написания каждой буквы. Читать ее записи действительно нелегко. Однако, проведя достаточно времени над этими словами и вникнув в контекст, их можно расшифровать. Но никто, похоже, не тратил время на эти документы. Никто не утруждал себя.
Зная Эндрю, я думаю, какое одиночество и удушающую скуку должна была испытывать Милдред. Но в то же время восхищаюсь ее решительным настроем. Несомненно, все двери Нью-Йорка были открыты перед ней. Она могла бы пойти куда угодно, увидеться с кем угодно. С артистами, политиками, со всеми шишками своего времени. Вечеринки, приемы, обеды. Мне видится что-то героическое и интригующее в ее отказе поддаться любому из этих явных искушений. При том что ее отказ не похож на пренебрежение. Как не похож и на следствие робости или страха.
Конечно, это я наделяю Милдред такими свойствами. Основываясь всего-навсего на почти пустых записных книжках, рассказах Бивела пятидесятилетней давности и романе Ваннера.
Однако в 1921 году происходит кардинальное изменение. Милдред начинает посещать концерты. Или как минимум начинает вести записи об этом. Не всегда ясно, какие произведения исполняются, — иногда указаны имена и композитора, и исполнителя; иногда сказано просто «концерт». В течение нескольких месяцев и следующего года я отмечаю сдвиг от «оперы» к «сольным концертам». Некоторые из этих концертов помечены цифрой «87», что должно означать место проведения, то есть дом Милдред.
Прежде пустые строки и столбцы ежедневников теперь пестрят (довольно свободно) именами. И хотя многие недели остаются пустыми, теперь у Милдред намечается что-то вроде светской жизни. Но ее знакомые по большей части не нью-йоркские светские львицы. Неоднократно она принимает у себя мужчин (иногда совсем без женщин), в их числе многих выдающихся музыкантов своего времени. Я всего лишь меломан без музыкального образования, но тем не менее узнаю отдельные имена, повторяющиеся год за годом. Довольно часто встречается дирижер Бруно Вальтер. Как и скрипачи Фриц Крейслер и Яша Хейфец. Пианисты Артур Шнабель и Мориц Розенталь. Композиторы Эрнест Блох, Игорь Стравинский, Эми Бич, Мэри Хоу, Раймунд Мандл, Отторино Респиги и Рут Кроуфорд — вот имена, которые я могу разобрать. Возможно, даже Чарльз Айвз. Позже, в ежедневнике за 1928 год, я замечаю, если зрение меня не подводит, Мориса Равеля.
Пусть все эти имена меня ошеломляют, но там есть нечто даже более примечательное. Осенью 1923 года я читаю слова, разборчивыми и бодрыми печатными буквами: «ЛИГА КОМПОЗИТОРОВ — ОСНОВАНА — 10 000 ДОЛЛАРОВ». Это первый раз денежная сумма появляется в бумагах Милдред в связи с учреждением культуры.
Я встаю, подхожу к картотеке возле стола библиотекаря и просматриваю карточки. В библиотеке имеется двадцативосьмистраничная брошюра под названием «Лига композиторов: Отчет о выступлениях и обзор деятельности между 1923 и 1935 годами». Я запрашиваю этот документ, и через несколько минут он прибывает.
Читая введение к тонкому отчету, я выясняю, что это первая организация в Соединенных Штатах, посвященная исключительно современной музыке. В 1935 году, спустя двенадцать лет после основания, в совете лиги заседают в числе многих прочих такие светила, как Аарон Копленд, Сергей Прокофьев, Марион Бауэр, Бела Барток, Марта Грэм, Леопольд Стоковский и Артюр Онеггер. Из двадцати семи членов вспомогательного совета двадцать — женщины. При жизни Милдред — и, предположительно, при ее финансовой поддержке — лига заказала, спонсировала и провела премьеры произведений Шенберга, Стравинского, Веберна, Равеля, Кшенека, Берга, Шостаковича и Бартока, и это далеко не полный перечень. Тем не менее, несмотря на обилие европейских композиторов, лига считала «особенно важной свою работу по внедрению свежих американских талантов, главным образом посредством менее формальных сольных концертов». Дом Милдред, по-видимому, был местом проведения многих из этих концертов, которые, вероятно, мало чем отличались от тех, что описал Ваннер в своем романе. Это должны были быть «нетрадиционные» произведения, «едва походившие на музыку», от которых Эндрю Бивел попросил меня избавить его мемуары.
В автобиографии Бивела милая, болезненная, чувствительная Милдред просто любила красивые мелодии. Словно ребенок с музыкальной шкатулкой. С его подачи так и представлялось, как она кивает с томной полуулыбкой, слегка не в такт, сложив руки на коленях, накрытых пледом. В снисходительном описании мужа Милдред представала очаровательной дилетанткой, получавшей удовольствие от музыки, как другие женщины получают удовольствие от вязания крючком или коллекции брошей. На меня накатывает новая волна стыда за то, что я помогла ему создать такой ее образ.
По ее ежедневникам и календарям не складывается ничего похожего на эту невинную, простодушную, нарочито «женственную» фигурку. Согласно этим документам, через год после свадьбы Милдред прекращает свою изоляцию и начинает проводить время с композиторами, исполнителями и дирижерами