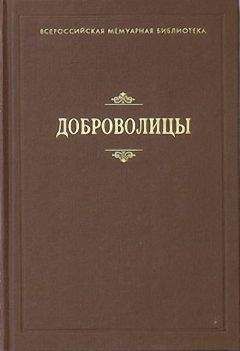— Не за бок, за живот! Это она до ветру бегит, кашей объелась! — подсказывает другая.
Попросила и я.
— Вы сделаете что-то хорошее. Я вижу вас сидящей у костра.
— Еще бы не хорошее! Всех вшей из штанов над костром выкурит! — замечает моя соседка.
— Погадайте и мне, — просит следующая.
— Вы благополучно вернетесь домой. Я вижу вас в солдатской форме в кругу близких. Вы со слезами радости прижимаете к груди маленького мальчика.
— От проклятая баба! — всплескивает руками одна из слушательниц. — Надо сказать хветхвебелю, щоб доглядав за ней. Приихала до дому и зараз хлопца родила!..
На все шутливые замечания «ясновидящая» никогда не обижалась. Мы попали в разные роты. Месяца через два я ее встретила на шоссе:
— Товарищ, погадайте мне!
— Ах, нет, увольте! Я больше не гадаю. У меня дар ясновидения, а из меня товарищи строят какого-то Петрушку!..
Второй комичной фигурой была двадцативосьмилетняя эстонка по фамилии Пендель или Пандель, прозванная Пудель. Она была санитаром. Я уверена, со времени основания Российского государства ни один воин не мог похвастаться такими прекрасными формами. Это был ком жира на двух подпорках. С несколькими подбородками и со столькими же жировыми складками на животике. Ходила эстонка раскорякой, так как из-за толщины ног составить вместе не могла. По той же причине руки, как крылья у квочки, торчали в сторону. Не знаю, правда ли, но одна доброволица утверждала, что у Пуделя была незаурядная сила. Ухватит восемнадцатилетнюю девочку за бочок, перекинет себе на горб и потащит — для Пуделя это не представляло большого труда. Как-то с песнями батальон проходил по улицам Петрограда. Шинели скрадывали наши фигуры, и никто не догадался, что шли женщины. Но лишь только показался наш Пудель, раздался веселый смех: «Женский батальон!..»
У меня во взводе были две монашки. Я как-то одной задала вопрос:
— А как вы попали в батальон? Я слыхала, что монашкам запрещается знать, как течет жизнь за монастырской стеной. Богомольцы сказали.
— Нет, господин взводный, я-то в церкви была два раза в год: под Пасху и Рождество. Все время проводила в тяжелой работе — на конюшне. Раз зашла черница и сказала: «Богомольцы баяли, что устроили Женский батальон». Страсть как мне захотелось поступить. Побежала узнать. Говорят, правда. Пришла к матушке игуменье, поклонилась в землю: «Благословите, матушка, поступить в Женский батальон! Жись свою хочу положить за Рассею!» Не стала она меня удерживать, тут же благословила и говорит: «Служи верой и правдой, не щадя живота, да моли Царя Небесного, чтобы простил нам наши прегрешения и вернул нам Царя земного. Без него, батюшки, не будет ни счастья, ни покоя на земле православной». Вторая же монашка, когда уже начались тревожные дни, при первой тревоге хватала молитвенник и начинала читать нараспев.
После обучения грамоте второй мерой, предпринятой ротным комитетом, было искоренение сквернословия. Кое-кто, бравируя, стал подражать довоенным боцманам. В роте искоренить это зло удалось. Но в обозе, где были преимущественно простые бабы, все это распустилось махровым цветком.
Как-то я проходила по шоссе. Две бабы возились около телеги. Здесь же стоял офицер. Что-то не ладилось с упряжью, и вдруг одна из них злобно заорала:
— Куды ты тянешь? Аль глаза у тебя в… Не видишь, что перекосило…
— Тра-та-та… — соловьиной песнью пронеслось по шоссе. Офицер схватился за голову: «Ну и женщины!»
Приближался день присяги, назначенный на праздник Рождества Богородицы, 8 сентября. Ротный предупредил: «Если кто-нибудь в себе не уверен, пусть уходит сейчас же. Не забывайте, что после присяги все ваши поступки будут караться дисциплинарным законом. Возврата к прошлому не будет!» Желающих покинуть батальон не нашлось.
Накануне присяги человек десять сидели вечером, долго разговаривая. Я задала вопрос:
— А что, товарищи, никого не страшит завтрашняя присяга?
— Да нет, господин взводный. Кто боялся, уже давно покинул наши ряды. Одно грустно — будем присягать России-матушке, да не Царю-батюшке…
— Вместо Царя присягнем Временному правительству! — проговорила другая.
— Да, придется, — вздохнула первая. — Да только кабы да моя воля, я бы Временному правительству не присягнула, а такого бы «пристегнула», что они не знали бы, в какую дверь спасаться!..
— Скажите, какая монархистка, — засмеялась ее соседка.
— А вы, товарищ, не боитесь так открыто говорить об этом? Ведь у нас есть сочувствующие революции. Могут донести…
— А доносчику первый кнут! — резко проговорила М., бывшая учительница. — И было бы величайшим позором, если бы наши доброволицы уподобились солдатам и начали доносить на нас же за наши убеждения. Наше дело не политика, а фронт. Мы можем не соглашаться друг с другом, но это нам не помешает плечом к плечу встать на защиту родины…
— Верно, правильно! — раздались одобрительные возгласы.
— А мой батька тоже был за Царя, — проговорила хорошенькая черноглазая доброволица. — Страсть как осерчал, когда узнал, что я записалась в батальон. «Кого, — кричит, — ты пойдешь защищать? Эту сволоту, что Царя с трона сбросила?» — «Нет, — говорю, — батя. Россию поеду защищать!..»
— А мой маленький братишка тоже отличился, — засмеялась другая. — Помнил, как во время войны мимо нас проходила манифестация с портретом Государя и пением «Боже, Царя храни». Идем с ним как-то после революции по улице, навстречу манифестация, но уже с красными флагами и пением «Интернационала». Мы остановились. Вдруг слышу, он спрашивает солдата: «Товарищ, а почему они не поют «Боже, Царя храни»?» Тот как захохочет: «А потому, парнишка, что они твоему Царю уже дали…» — и прибавил непристойное выражение.
— Эй вы, полуночники! Не пора ли на покой? Ведь завтра рано подниматься! — раздался голос из угла.
— В самом деле, давайте ложиться, — сказала я, поднимаясь. — Завтра нам предстоит если не решительный бой, то решительный день. И хорошо быть не только с ясной головой, но и отдохнувшими телом.
Мы разошлись по своим местам.
Наутро, особенно тщательно приведя себя в порядок, стали поротно стекаться к месту присяги. Дул ветер. Но вот батальон выстроился. Священник обратился к нам со словом. Сказал, что ему впервые в жизни приходится приводить к присяге гражданок. Говорил о нашем долге перед родиной и что наша верная служба зачтется нам на Небеси.
Наступил торжественный момент. Тишина стояла такая, что, пролети муха, мы услышали бы ее жужжание… «Поднимите правую руку с тремя сложенными перстами и повторяйте за мной! — прозвучал в тишине голос священника. — Клянусь и обещаю…» Мы клялись в верности родине и повиновении начальству. Затем приходили прикладываться к кресту и расписывались.