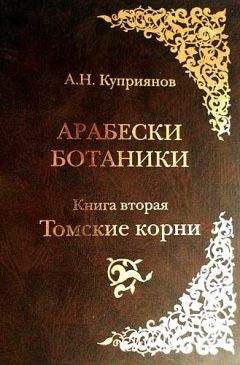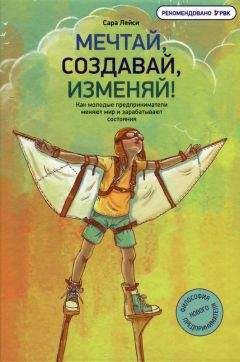Ознакомительная версия.
Непонятно, какая школа взяла бы ее сына с трудным характером, если бы действие разворачивалось не в Петербурге – колыбели интеллигенции, которая веками строила социальные связи, чтобы выучить детей в приличных заведениях. Друзья отца, филологи Русаковы, после открытия педагогической вольницы возрождали систему классического дореволюционного образования – в собственной школе. Тогда, в 1992 году, им повезло – Академической гимназии при университете достался крупный транш от Министерства образования. Накал энтузиазма в то время был высок, о «пилежке» средств речи не шло – поэтому Русаковы под свои «общеобразовательные классы» получили деньги и арендовали Аничков дворец на Невском.
Педагогическая идея в целом выглядела так. Если ребенка учить с малых лет математике и языкам, он научится думать и воспринимать информацию таким образом, что новые науки и умения освоит без труда. От классического образования оставили латынь, заканчивающуюся в выпускном классе «Записками о Галльской войне», английский, французский и немецкий языки, которые вводились последовательно.
Сперва классы жили в роскоши, учеников возили по Европе, и они едва ли не столовались по талончикам в «Метрополе». Русаковы как люди талантливые, но непрагматичные, считали, что школа должна быть бесплатной – чтобы могли учиться таланты из бедных семей. Затем деньги иссякли, и энтузиасты съехали в плохо отапливаемые помещения университета. Классы предложили родителям сдавать 83 рубля в месяц – в тот момент минимальная оплата труда, – но родители отказались. Гимназия поставила экспериментаторам ультиматум: «Самоокупаемость или роспуск», и Русаковы ушли. Началась эпоха мытарств. Тогда профессор Дуров и привел в классы заносчивого младшего сына.
* * *
Мальчика пригласили пройти отбор – письменный тест, затем задачи на лингвистическое чутье. Предлагалось ознакомиться с текстом, написанным на несуществующем языке, – и, разобравшись в его структуре, с помощью скудных вводных догадаться, о чем идет речь. Дуров проанализировал имеющуюся информацию и сдал листок с ответом. Все оказалось верно, и последующее собеседование было почти формальностью.
Новый директор Григорий Медников снимал помещение в конструктивистском доме культуры у «Нарвской», где в 60-х на поэтических турнирах являлся публике Бродский. Английский учили в аудитории, которую оккупировал клуб анонимных алкоголиков. Историю – в помещении, где адвентисты разучивали за партами гимны. Рядом «зажигал» клуб «Пляшущий пенсионер». Дорога в эти остросюжетные обстоятельства занимала у Дурова час: автобус до метро, пересадка, эскалатор и немного пешком.
Я помню Петербург того времени. Декабрь, утро. На улицах тусклый свет, аэродинамические трубы подворотен, сугробы, как морены ледника, ползущего по мостовым. Ощущение, что город сплотился, чтобы пережить темень этих месяцев.
Хозяйка, у которой вписывались друзья, жила по адресу Большая Морская, дом 2 – то есть почти в арке, выводящей на Дворцовую площадь. Тревожить ее было неприлично, поэтому мы пробрались переулками к трамвайной линии, чтобы выспаться на протяженном маршруте. Вверху болтались фонари, неслись по касательной люди-футляры, спешащие скорее прятаться от ветра, чем к рабочему месту. Двери в трамвае стреляли, как красные матросы, и вздремнуть не удалось. Надежда скоротать время в Ростральной колонне пропала, когда за дверью, ведущей в ее недра, мы нашли спящих бродяг.
Вывалившись из стреляющих дверей, толкаясь среди замерзших футляров, к метро устремлялся и Дуров: «Я помню очереди на подступах к станции. Метров за сто. Самое опасное место – поручень, туда выносило тех, кто не сопротивлялся».
Он оказался самым младшим в классе. Сначала сидел за партой с девочкой Тасей, которой нравился. Одноклассники вспоминали, что Тася зачем-то носила соседу медяки, копеечки, и он пересыпал их в портфель. Позже Дуров оккупировал первую парту, где пребывал чаще всего в одиночестве, ссутулившись над тетрадями или рассматривая – третья строчка снизу яснее не стала – то, что нацарапано на доске.
До старших классов у него не было друзей. Исключение составил товарищ, с которым они проучились неполных два года. Этот ученик одним своим присутствием спасал общеобразовательные классы от развала.
Каждое утро Слава ехал в школу на лимузине с охранником, разглядывая в окно сонный Кировский район. Он тормозил авто за три квартала, вылезал на тротуар, продевал руки в лямки рюкзака и шагал к Дому культуры, не глядя на проезжую часть. Там, прикидываясь, что хочет припарковаться, полз лимузин. Молодой человек был сыном короля игорных заведений города Михаила Мирилашвили.
В общеобразовательных классах тусовались дети интеллигенции, и не каждая семья с легкостью вносила оплату, которую пришлось ввести. Например, для Дуровых это было существенной тратой.
По закону голливудо-болливудских драм столкновение Славы с гордыми детьми, занимающими унизительную вторую, если не третью полку в социальном купе, вело к неизбежному конфликту.
Однако сюжет развивался в колыбели интеллигенции, а не в «Голли-Болли». Слава оказался вежлив, корректен, учился не хуже прочих.
На переменах сын миллионера бегал в пышечную и влетал в класс, держа в руках замаслившийся пакет с выпечкой. Дуров оказался едва ли не единственным, с кем подружился Слава.
Жизнь в классе бурлила. Предводители Диевский и Паперно придумали свое государство и написали конституцию. Класс играл в демократию, избирал президента и т. д.
Дурова, может быть, это и волновало, но вида он не показывал, иронически улыбаясь массовым развлечениям. Его одолевали собственные идеи об успехе и власти. Сидя на крыше бункера у аэродрома, он штудировал Кастанеду в компании с Наполеоном Хиллом. «Ты – то, что ты думаешь; думай и богатей».
Однажды класс проходил «Обломова». Илья Ильич как зеркало русской души. Дискуссия. Большинство соглашается, что главный герой добр, безвреден, а Штольц вполне бездушный немчура, механизм и чужеродное тело на славянских просторах.
Руководил обсуждением Николай Гуськов, учитель словесности, известный тем, что любил средневековую литературу. Итальянцу Дурову нравилось, что Гуськов фокусируется на малоизвестных течениях – например, прованских или ломбардских трубадурах. Правда, эта симпатия не отменяла его «идеи фикс» – быть во всем contrarian, противоположным общепринятому взгляду на вещи.
Выслушав про нежную душу Обломова, Дуров (о русские дворянские фамилии!) поднял руку. Гуськов дал слово. «Я считаю, что произведение, поэтизирующее лень, следует исключить из школьной программы», – проговорил Дуров. Класс вздрогнул и вышел из оцепенения. Дискуссия свернула на непредсказуемую дорожку.
Ознакомительная версия.