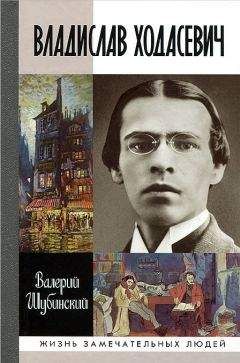В семье было уже четыре сына и две дочери. Старшим был Михаил. Поженились «Фелицианы» (как позднее все за глаза называли чету старших Ходасевичей) в 1862 году[25] и, видимо, почти сразу же покинули Литву, переселившись во «внутреннюю» Россию. Михаил Фелицианович родился в 1865 году в Туле и, из-за отсутствия там костела и католического священника, был — единственный в семье — крещен в православие. Затем по старшинству шла, видимо, Мария; затем два сына — Виктор, 1871 года рождения, и Константин-Станислав (Стася, как звали его в семье), 1872 года рождения; затем Евгения, родившаяся в 1876 году. К тридцати годам Софья Яковлевна была матерью пятерых детей — больше рожать, возможно, и не собиралась. Но десять лет спустя у очень немолодых родителей появился еще один сын.
При крещении мальчик получил, согласно метрическому свидетельству, двойное имя — Владислав-Фелициан. Но второе имя употреблялось лишь в деловых бумагах, и то не всегда.
Интересно, что в 1927 году Ходасевич подписал шуточное стихотворение, написанное силлабическим стихом и в манере русских виршеписцев XVII — начала XVIII века, которые находились под влиянием польской культуры, а зачастую были и уроженцами Речи Посполитой, именем Фелициан Масла; в то же время он, как журналист и переводчик, начиная с 1908 года и почти до конца жизни, иногда пользовался псевдонимом Ф. Маслов. Второе имя, совпадающее с именем отца, и вторая, шляхетская, фамилия стали объектом тонкой игры, можно сказать — прозванием тайного alter ego.
Поздний ребенок родился на две недели прежде срока и оказался слабым и болезненным. Уже в первые дни жизни у младенца вскочил огромный типун на языке; он отказывался принимать пищу и умер бы, если бы доктор Смит, натурализованный англичанин, не догадался прижечь волдырь ляписом. Кормилицы одна за другой отказывались от ребенка, «говоря, что им невыгодно терять время, ибо я все равно „не жилец“. Наконец нашлась одна, которая согласилась остаться, сказав: „Бог милостив — я его выхожу“»[26]. Это была крестьянка Тульской губернии Одоевского уезда Касимовской волости села Касимова Елена Александровна Кузина (по мужу Степанова).
Мальчик выжил, но часто и подолгу болел; над ним тряслись, как часто трясутся над поздними и болезненными детьми. Родительские страхи доходили до абсурда и не всегда шли на пользу. «Боясь, как бы не заболел у меня животик, Бог весть до какого времени кормили меня кашкою да куриными котлетками. Рыба считалась чуть ли не ядом, зелень — средством расстраивать желудок, а фрукты — баловством. В конце концов у меня выработался некий вкусовой инфантилизм, то есть я и по сию пору ем только то, что дают младенцам. От рыбы заболеваю, не знаю вкуса икры, устриц, омаров: не пробовал никогда»[27]. В зрелые годы Ходасевич питался почти исключительно мясом и макаронами. Этот не слишком здоровый рацион, возможно, способствовал склонности к нарушениям обмена веществ и порожденным ими недугам, мучившим поэта всю жизнь, — фурункулезам, экземе, а также расстройствам желудочно-кишечного тракта. Подвержен он был и простудным легочным заболеваниям (уже в детстве и отрочестве его преследовал призрак роковой в то время чахотки), и болезням позвоночника.
Кормилица Елена Кузина на долгие годы осталась нянькой Владислава. Ее собственный ребенок вскоре умер в воспитательном доме. А воспитанник подарил ей, как и своим родителям, бессмертие. Стихотворение, посвященное кормилице, набросанное в 1917-м и завершенное в 1922 году, — один из прославленных шедевров Ходасевича:
Не матерью, но тульскою крестьянкой
Еленой Кузиной я выкормлен. Она
Свивальники мне грела над лежанкой,
Крестила на ночь от дурного сна.
Она не знала сказок и не пела,
Зато всегда хранила для меня
В заветном сундуке, обитом жестью белой,
То пряник вяземский, то мятного коня.
Она меня молитвам не учила,
Но отдала мне безраздельно все:
И материнство горькое свое,
И просто все, что дорого ей было.
Лишь раз, когда упал я из окна
И встал живой (как помню этот день я!),
Грошовую свечу за чудное спасенье
У Иверской поставила она…
Само наличие русской няньки было для Ходасевича символичным. «Измена» Польше была травмой, которую надо было как-то пережить, но и «мучительное право» быть русским поэтом (или просто — быть русским) не подразумевалось само собой. Молодой Ходасевич приобретал это право, прежде всего в собственных глазах, через самоуподобление Пушкину (ведь и молодой Мандельштам щеголял «пушкинскими» бакенбардами). Как и у Пушкина («француза», выходца из космополитической светской среды, да еще с экзотической африканской кровью), у полуполяка-полуеврея Ходасевича была любящая няня из русских крестьян. Только она «не знала сказок и не пела», в отличие от Арины Родионовны Яковлевой[28].
Связующее звено с «громкой державой» и ее «волшебным языком» — не фольклор, не народная культура. Эта связь физиологична, материальна — связь через грудное молоко, заменяющая отсутствующее кровное родство.
Падение из окна подробно описано в «Младенчестве»: «Интересно бывает следить из окна за всем, что делается на дворе. На подоконник в няниной комнате я поставил скамеечку для ног и сижу на ней. Няня гладит белье. Весна. Окно раскрыто, и я сижу в нем, как в ложе. Подо мною — покатая железная крыша — навес над лестницей в дворницкую, которая находится в подвале. На крыше стоят горшки из-под гиацинтов: от Пасхи до Пасхи мама хранит их луковицы. Мы сами еще не скоро поедем на дачу, а вот какие-то счастливцы уже отправляются: ломовые громоздят мебель на воз: наверное, все переломают. А вот вынесли клетку с попугаем. Я вытягиваю голову, привстаю — и вдруг двор, который был подо мной, стремительно подымается вверх, все перекувыркивается вверх тормашками, потом что-то ударяет меня по голове, на затылок мне сыплется земля, а я сам, глядя в синее небо, сползаю по крыше вниз, ногами вперед. Рядом со мною с грохотом катится цветочный горшок. Он исчезает за краем крыши, а я утыкаюсь каблуком в желоб и останавливаюсь. Потом — нянин крик и занесенная надо мной огромная нянина нога в белом чулке с красной тесемкою под коленом. Меня хватают на руки, и через то же окно мы возвращаемся в комнату. Дома никого нет. Няня меня одевает, и мы на извозчике отправляемся прямо к Иверской. Няня ставит свечу и долго молится и прикладывается ко всем иконам и меня заставляет прикладываться. Не зацепись я за желоб, пролетел бы целый этаж и мог сильно разбиться, если не насмерть. Дома няня рассказывает все маме. Мама плачет и бранит то ее, то меня. Крик. Все плачут, все меня обнимают. Потом меня ставят в угол»[29].