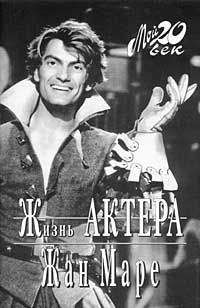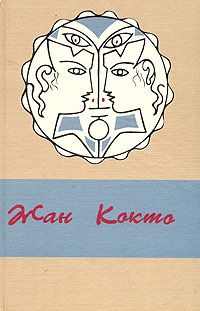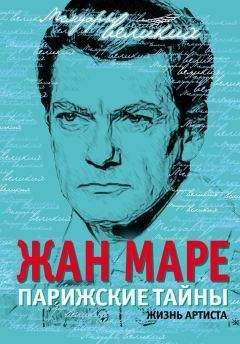Затем, как обычно, мы отправились в отель «Терминюс». Но прежде чем сесть за стол, Жаку нужно было взять какие-то бумаги, которые он оставил у себя в номере. Я пошел с ним. В номере он поцеловал меня в лоб и усадил на кровать. Он не стал ничего искать в комнате и стоял спокойный, молчаливый, без тени смущения, слегка улыбаясь. Усадив меня, он не выпускал моей руки. Я смотрел на него в недоумении, в моих глазах застыл немой вопрос. Он поцеловал меня в волосы. Я решил, что ему нужно сказать мне что-то важное. Речь могла идти только о матери. Он все еще стоял, прижавшись лицом к моим волосам, и держал мою руку в своей. Это было бесконечно, невыносимо. Он осторожно согнул свою руку, и мои пальцы коснулись его. Его рука продолжала направлять мою, заставляя ласкать его. Теперь он смотрел на меня и, видел в моих глазах отсутствие всякого страха.. Я был только удивлен и заинтересован. На несколько мгновений он выпустил мою руку, затем снова взял ее. Ему уже почти не нужно было направлять ее, как вдруг она стала мокрой.
Он, как обычно, поцеловал меня в щеку, дружески похлопал по плечу, вышел в ванную и вернулся с полотенцем, чтобы вытереть мою руку, которую я все еще держал вытянутой, со смущенным видом. Он снова поцеловал меня.
— Ты ведь ничего не скажешь маме или кому-нибудь другому?
Я не ответил.
Вернувшись в Жансон в тот вечер, я не поцеловал фотографию матери. И не плакал, спрятавшись под одеяло.
Наконец, в субботу в приемной меня встретила мама, чтобы забрать домой. Она была прекраснее и элегантнее, чем всегда. На ее запястье не было следов перелома, оно было тонкое, благородное, как и ее руки. И множество пакетов. Дома — подарки для нас с братом.
На следующий день она играла с нами в жандармов и воров, в прятки, в крокет. Она была молода, прекрасна, беззаботна, словно ребенок. Она снова наряжалась: накладной нос, пенсне, вуалетки, старые платья тети Жозефины. Все смеялись, и она была счастлива!
Тяжело было возвращаться в лицей, хотя у меня там были хорошие товарищи. Лучшие из них — Мальрэ и Гюйо, отец последнего выпускал карамели «Гюйо». Он дарил нам их целыми коробками. У меня был сюрприз для моих товарищей: настоящий револьвер, который я стащил у брата. Неизвестно почему, его называли «велосипедным пистолетом». Я же предпочитал называть его «револьвер». Это оружие было совершенно безобидным, поскольку внутри не было пуль. Но, когда мы говорили «настоящий револьвер», это нас опьяняло. Пистолеты с пистонами, производившие гораздо больший эффект в играх, казались нам смехотворными. Гюйо предложил мне в обмен на револьвер пятьдесят коробок карамели и что-то еще. В конце концов я согласился. Мы договорились, что я отдам ему револьвер, когда он сможет отдать мне конфеты.
В следующий понедельник все ребята из нашего дортуара отправились в душ. Мне нравилась атмосфера душевой: пар, очень своеобразный запах, тусклый зал, где каждый звук разносился гулко, как в пещере. Я всегда старался задержаться здесь подольше и одевался последним. Товарищи уже ушли, и я торопился, чтобы догнать их, когда один из классных наставников остановил меня:
— У тебя шнурок развязался.
Я наспех завязал шнурок и собирался уходить. Воспитатель чем-то напоминал Жака. Он легонько взял меня за ухо и сказал, улыбаясь: «Пойдем». Он держал меня за ухо осторожно, но крепко, так что любая попытка вырваться была напрасной. Он подвел меня к кабине душа и отдернул занавеску. Там стоял второй наставник, совершенно голый. Рассеянный свет не мог скрыть его неказистой внешности. Первый посмотрел на меня и рассмеялся. Второй был счастлив, видя мое удивление, которое он принял за восхищение. Я стал пунцовым...
Тот, что держал меня за ухо, взял с меня слово молчать и отпустил.
Я никому не рассказал о случившемся. Однако «маленькое чудовище» воспользовалось этим. Когда они дежурили, я свободно входил, выходил, курил, разговаривал, не получая ни одного замечания.
Однажды воспитатель отозвал меня в сторону:
— Маре, один из ваших товарищей вас выдал. Он сказал, что у вас есть настоящий револьвер. Боюсь, что он сказал об этом главному воспитателю. Если это так, дайте лучше мне ваше оружие, я верну его вам в субботу, когда вы пойдете домой.
Я решил, что это какой-то шантаж, и все отрицал. Потом рассказал об этом Гюйо.
— Обмен не состоится, — сказал я ему.
— Обмен все равно состоится, — ответил он. — Дай мне револьвер. Если тебя обыщут, ничего не найдут. А карамели я принесу в понедельник.
Я отдал ему револьвер.
Когда меня вызвали к главному воспитателю, я взял у товарища пистолет с пистонами.
— Маре, у вас есть настоящий револьвер?
— У меня есть только пистолет с пистонами. Я внушил остальным, что это настоящий.
— Дайте его мне.
Я отдал ему пистолет.
— Благодарю, возвращайтесь в класс. Но, если вы мне солгали, я буду вынужден выгнать вас из лицея.
Немного позже меня вновь вызвали к главному воспитателю.
— Маре, вы мне солгали. Я показал вашему товарищу пистолет, который вы мне дали. Он утверждает, что это не тот. Вы играли во дворе не с игрушечным пистолетом, а с настоящим револьвером. Я требую, чтобы вы мне его отдали.
— У меня никогда не было настоящего револьвера.
Мне казалось, что я участвую в одном из тех фильмов, которые смотрел по четвергам. Я был Аль Капоне и вступил в поединок с полицией. Мне вдруг показалось, что на главном воспитателе парик и красная одежда. Я смотрел ему прямо в глаза.
— Маре, я допросил вашего лучшего друга Марле. Он мне все рассказал.
— Марле ничего не мог вам рассказать. У меня никогда не было револьвера.
— Ладно, можете идти.
Главный воспитатель вызвал Марле.
— Маре мне все рассказал. Дайте мне этот револьвер.
Марле поверил ему.
— Он не у меня, — сказал он, — а у Гюйо.
Из Жансона меня не выгнали — это был лицей, который дорожил своей репутацией. Но предупредили:
— Если вы не уйдете, мы будем вынуждены...
Я пробыл там еще несколько дней, пока дирекция лицея не потребовала от моих родственников, чтобы меня забрали.
В последние дни моего пребывания в лицее все было перевернуто вверх дном из-за отлета Нёнжесера и Коли[6] в Америку. Мы только тем и занимались, что передавали друг другу вырезки из газет, рассказывающие об этих героях. В ночь полета никто из наставников не мог загнать нас в дортуары. Классные воспитатели сами были возбуждены, они понимали и прощали наше поведение. Каждый из нас представлял себя Нёнжесером или Коли. На следующий день весь лицей отказывался верить в гибель столь исключительных личностей. Среди лицеистов царило всеобщее уныние. Мой отъезд прошел незамеченным. Меня снова поместили на полупансион в Сен-Жермен.