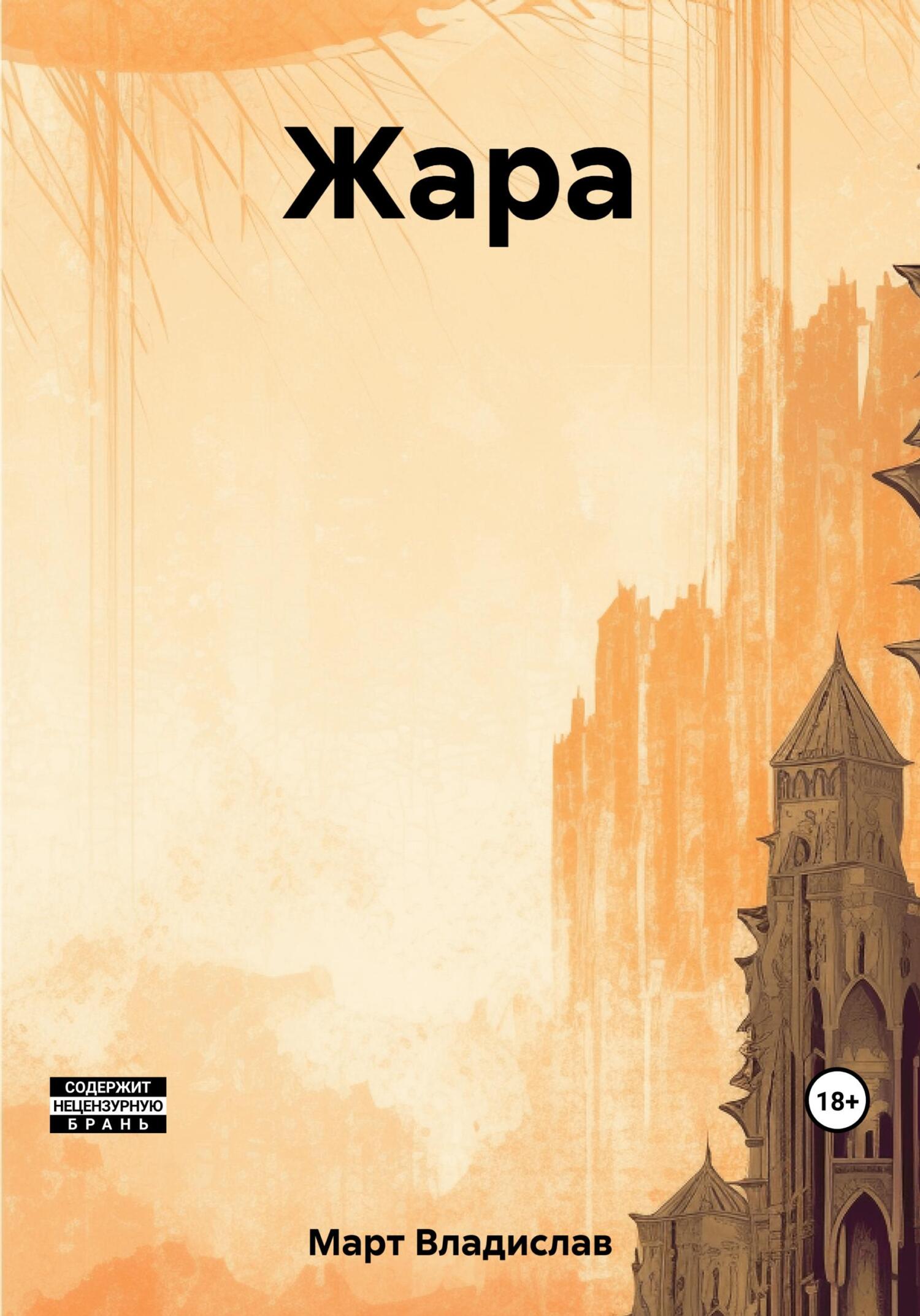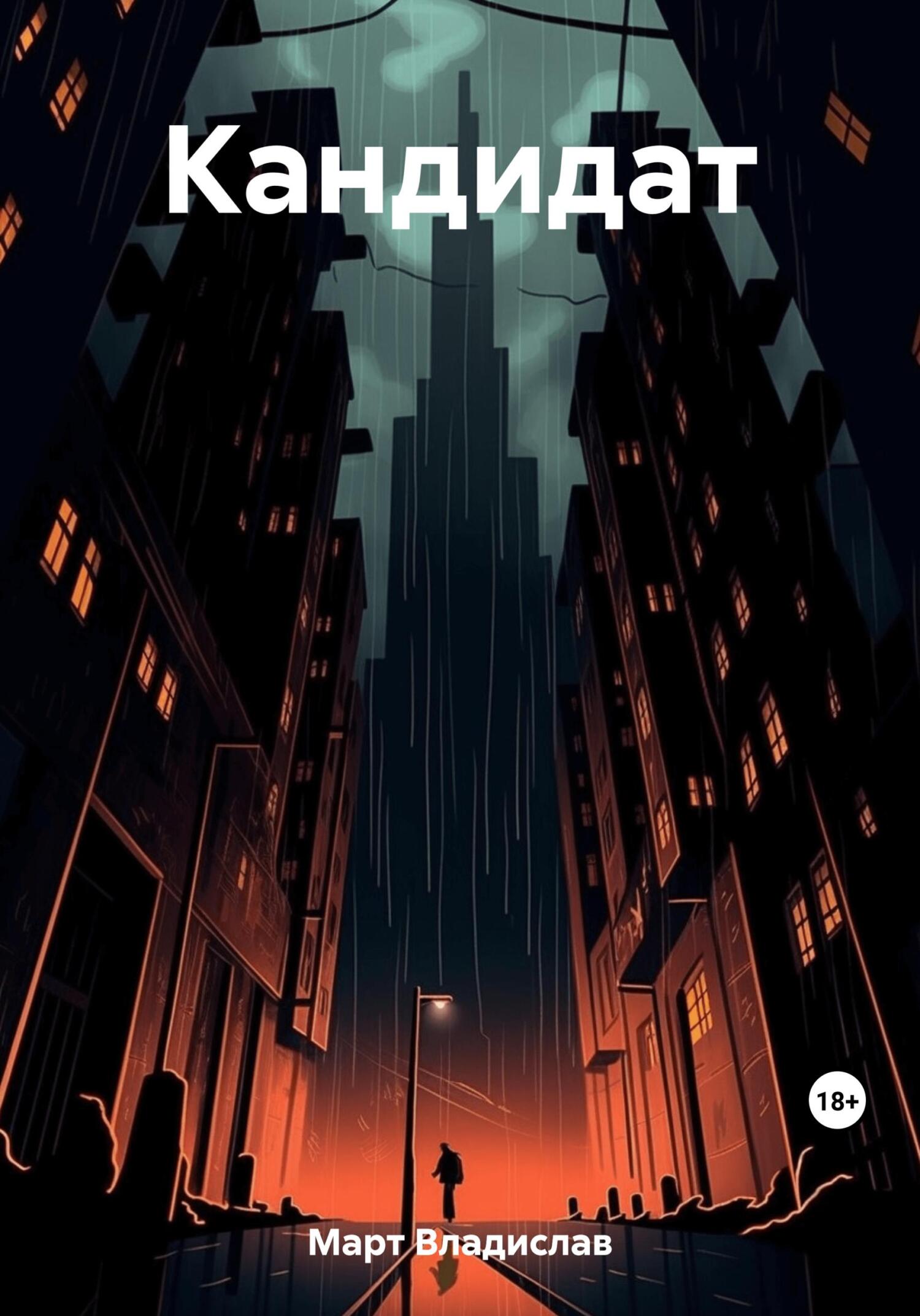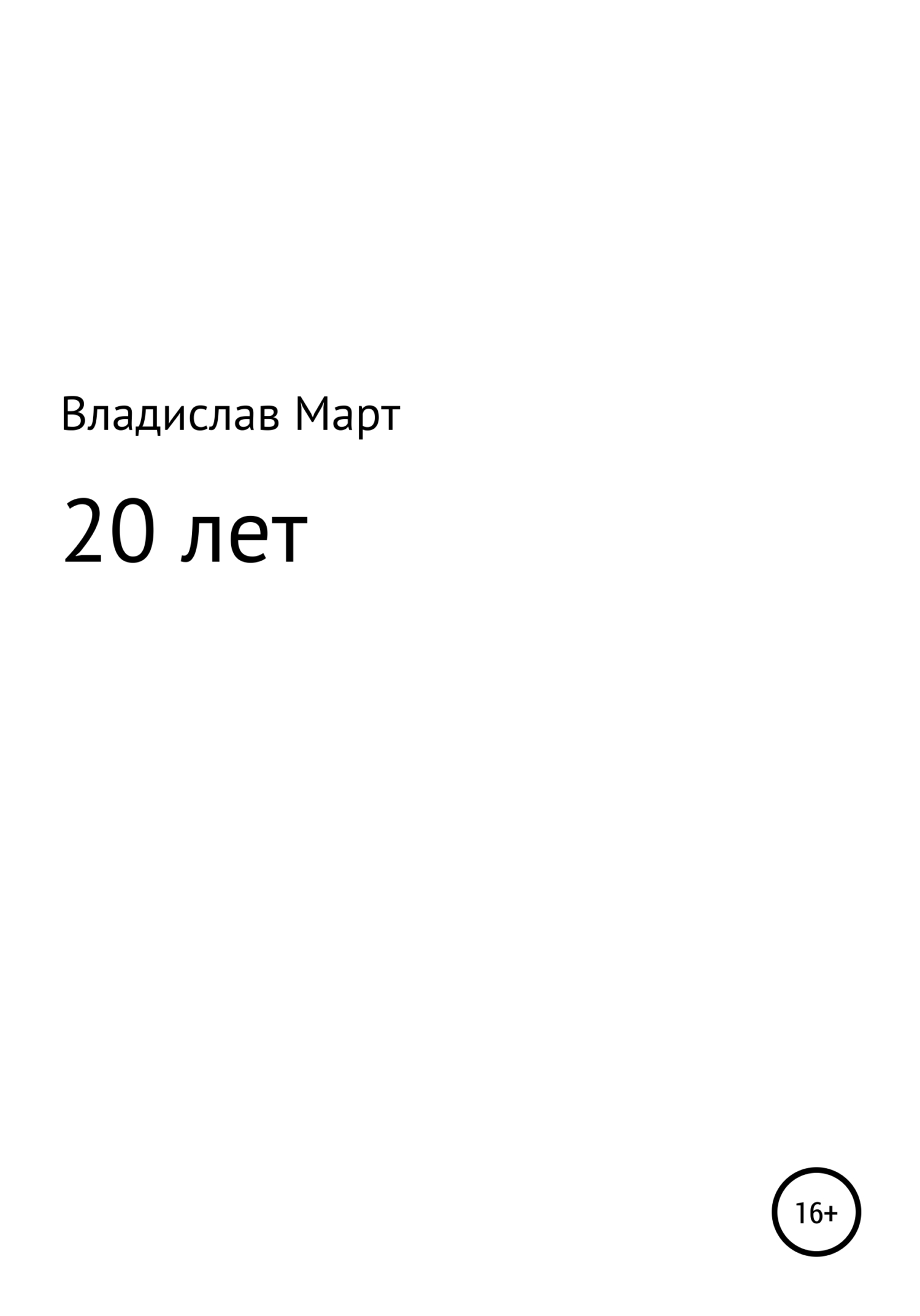я, пренебрегая всей маскировкой отдёрнул штору из старой скатерти на проволоке и открыл большое окно. Первые секунды дали кислород и пара вдохов прошла бодро. Последующие уже внесли в лёгкие подогретую газовую смесь и заставили опираться руками на подоконник. С воздухом что-то не так или ишемия у меня какая-то, но дышать днём вот этим жёлтым солнечным газом невозможно. Польза от открытого окна проявилась ещё в том, что не почувствовал я запаха гари. Ночной пожар утих. Там вокруг дома была богатая бетонная отмостка и машиноместо величиной с корт для тенниса, наверное, на этом бетоне всё и догорело. Не пошло ни в лес пугать соек, ни к улице на более бюджетные коттеджи из палочек. Я через силу вдохнул ещё раз, ни гари, ни незнакомых запахов. Отошёл шатаясь пьяный жарким газом и стал колдовать над завтраком. Сначала господину псу, потом господину пёсову другу. Ничего, будет зима. Уйдёт пламень адский. И все будут делать вид, что они ни причём. И кто-то победит, а меня перестанут искать днём, и убивать ночью. Все вернутся домой, а главное, вернутся в себя. Зимой, надеюсь, это случиться нынешней зимой. Пёс вернулся со двора через лаз в двери и захрустел спрессованными счастливыми калориями, от которых потом улыбаясь будет лежать в самом нежарком месте из возможных. Я с горкой консервов на тарелке украшенной одиноким огурцом пошёл в комнату у северной стены. Она прогревается до невыносимости только к полудню. Проходя мимо градусника отметил взглядом треклятые тридцать один. Что за цифра такая? Почему всегда тридцать один? Ни поделить её, ни отнять. Простое, твою мать, число. Проклятие.
Летний мой тур продолжился мимо оплавившихся акварелей на стене, мимо пары резиновых сапог, наклонившихся от жары в разные стороны, мимо занавески из простыни к столику у книжного шкафа. Что, классики, выпендриваетесь? Что вам не стоится за стеклом? Все тома Чехова и Воннегута были прислонены к стеклянным дверям с внутренней стороны, они отошли от задней стенки и уставились на меня. Они даже на полсантиметра отодвинули стул, подпиравший ручки. Что смотрите агрессивно? Что я могу сделать? Мне лозунги принтером писать и по Лубянке бегать? Или прикажете русскую тоску на хлеб намазывать и этим питаться? Что вы вообще знаете про сейчас из своего вчера? Да, пьют и воруют. Теперь это называется наркомания и коррупция, но суть та. А вы знаете, что нынче образованному человеку чтобы достойно зарабатывать приходиться людей убивать или помогать тем, кто убивает, или притворяться что помогаешь. Вы знаете, что дети сдают экзамены по отличиям доброго русского империализма от злого европейского колониального империализма? Чувствуете какие проблемы у нас тут? Не про лирику. Я оставался доволен тем, что Курт не отвечал. Нечего ему ответить, его антивоенная фантастика так и осталась фантастикой. Запустив вилку в консервированное животное, всегда использую вилку вместо ложки, это возвышает, я принялся вставлять в рот плоть в соусе. Но когда дошло дело до стакана с холодной водой, шкаф вдруг ожил.
На верхней полке стали раскачиваться тома биографий Маяковского и с амплитудой ударили по дверцам изнутри. Шкаф наклонился, стул упал и в мою сторону полетели красные корешки из распахнувшихся дверей. Четыре, тяжёлые как удар, тома долетели до меня. Опрокинули тарелку и кесарю кесарево, съездили мне по лицу. Курт и Антон полетели по инерции следом. Мне на плечи и ноги. Богу богово, а такому как я, защищая голову от груды книг, как от кирпичей, ткнуться куда? Я успел укрыться под столешницей, где для меня уготовано логово. Не успели достичь пола и меня ряды нижних книг, как на всё это упал и сам шкаф. Если б я был маленький как великий океан. Я не поместился под столешницу полностью и получил по спине всей массой шкафа. На цыпочки б волн встал, но выпрямится не смог, только разбросал с себя книги и вышел. Приливом ласкался к луне бы, умываясь и осматривая ссадину на лбу в зеркало. Шкаф остался полулежать на столе.
Я понимаю, ребята-дядьки. Не выдержали такой моей пассивной позиции. Надо жечь. Надо глаголом. Согласен. У нас пока по хребту не получишь, мотивация не оформляется в реальную работу. Я запишу всё это, ребята-дядьки. Я вам запишу и покажу. Про моё летнее путешествие, про жар этот внешний, который никаким холодом внутреннего равнодушия не унять. Я вам напишу про всю вырождюпонь, что караулит меня на улице, про победу эту великую и очередную, про загаженную мусором луну, про дрянь, про то, что свободно говоришь только в закрытом коттедже в закрытом посёлке в закрытой стране с закрытым ртом. Про двадцать девять и про тридцать один. Вам всё запишу и покажу. Простыми словами, простыми числами. Становитесь на полки, ребята-дядьки. Сейчас лицо от крови умою и начну писать. Это нужно записать. Хотя бы для того, чтобы когда жар закончится и аномалия встанет на место, никто не сомневался, что были другие, были мнения, были люди у шкафа. В урну полетел кусок окровавленной туалетной бумаги. Я не торопился возвращаться и поднимать шкаф. Присел на ступеньку, ведущую наверх. Пёс перевернулся в коридоре на другой бок. Какая-то последняя книжка шмякнулась о пол в кабинете и наступила тишина. Она всегда была здесь со мной, но теперь особенно мне будет нужна чтобы находить слова для правильных мыслей в правильный текст.