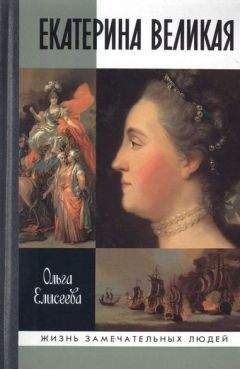«Мадам Голицына дискутирует, как львенок, — говорил Дидро. И добавлял задумчиво, — Впрочем, она, кажется, слишком чувствительна, чтобы быть счастливой».
Гете высказался на этот счет более определенно: «Амалия — одна из тех индивидуальностей, понять которые невозможно вне контекста эпохи, в которой они живут».
Надо ли говорить, что семейные дела Голицыных были нехороши? Супруга Дмитрия Алексеевича, чтобы не пропустить лекцию в университете, могла уйти с придворного обеда, дети были заброшены, казенных средств на обустройство дома на широкую ногу, как того требовало положение мужа, не хватало — денежный оклад посланника в Гааге много проигрывал содержанию его коллег в Париже, Лондоне и Мадриде, а собственное состояние Дмитрия Алексеевича было незначительным.
В результате после пяти лет брака, Голицыны жили фактически врозь — Амалия с детьми в деревне по дороге из Гааги в Швеннинген, Дмитрий Алексеевич — в городском доме. С 1775 г. Амалия переселилась в вестфальский город Мюнстер, где князь навещал ее раз в год.
Впрочем, Голицын придавал мало значения житейским трудностям. По вечерам в его доме собирались литераторы и ученые, почтительно внимавшие жарким дискуссиям, которые вел российский посланник с заезжей парижской знаменитостью. Вмешаться в них не было никакой возможности не только по причине необыкновенного красноречия Дидро, способного часами увлекательно рассуждать на самые разнообразные темы. Редких смельчаков, желавших принять участие в разговоре, повелительным жестом останавливал сам князь Дмитрий Алексеевич. А поскольку по каждому из обсуждавшихся вопросов Голицын имел свое мнение, судил строго и Плиния, и Цицерона, то споры его с Дидро порой продолжались до рассвета, заканчиваясь уже после того, как последний гость покидал гостеприимный дом российского посланника.
Утренние часы Дидро по многолетней привычке проводил за письменным столом — голландский издатель Марк-Мишель Рей, свой человек в доме Голицына, уговаривал его издать полное собрание сочинений. Дело в том, что Дидро, начисто лишенный авторского самолюбия, часто не подписывал свои многочисленные статьи, опубликованные в разных европейских изданиях. Рей, издавший за несколько лет до их встречи избранные произведения Дидро, невольно включил в них немало апокрифов. Вдвоем с Голицыным издатель уговаривал Дидро собрать и самому отредактировать свои многочисленные статьи, романы, пьесы. Слух об этом быстро достиг литературного Парижа, наделав много шума.
Из затеи этой, однако, ничего не вышло. Встречи с издателями, даже случайные, редко приносили Дидро удачу.
4
Князь Дмитрий Алексеевич был большим поклонником Гельвеция.
— Juger c’est sentir[8], — говаривал он со значением.
Мадам Голицына, приходившая в необыкновенное возбуждение каждый раз, когда ее муж цитировал излюбленную сентенцию Гельвеция, принималась спорить, доказывая превосходство сердечных чувств над голосом разума.
— Счастья нет ни в удовольствиях любви, ни в удовлетворении честолюбия, ни, тем более, в богатстве, — отвечал ей нравоучительно Дмитрий Алексеевич. — Счастье подлинное — только в любви к науке и искусствам.
Дидро с обычной своей доброжелательностью относившийся и к Гельвецию, и к Голицыным, и к чайкам, гортанно кричавшим на пляжах Шееннингена, деликатно помалкивал, предпочитая не ввязываться в семейные диспуты. Впрочем, сохранять молчание в споре о Гельвеции его побуждали и другие, более веские причины.
Сразу же после приезда Дидро князь Дмитрий Алексеевич посвятил его в тайное предприятие, над которым упорно трудился последние полтора года. Речь шла об издании рукописи Гельвеция «De l’homme, ses facultés intellectuelles et son éducation»[9], оставшейся неопубликованной после его смерти в 1771 году.
Дело это, на первый взгляд вполне ординарное, вызвало впоследствии громкий политический скандал, затронувший и Голицына, и Дидро. Поэтому мы вынуждены прервать ненадолго наше повествование и обратиться к истории издания Гельвеция российским послом в Гааге.
Рукопись эта, которую автор не успел опубликовать при жизни, попала в руки князя Дмитрия Алексеевича путями неведомыми. Естественно предположить, что она была получена от родственников и наследников Гельвеция, с которыми Голицын был дружен. Однако переписка князя с вице-канцлером Голицыным по этому вопросу отмечена непонятной и поэтому настораживающей таинственностью. Приказывая списать рукопись для императрицы, вице-канцлер советовал «действовать с величайшими предосторожностями», особо следя за тем, чтобы переписчик не сообщил на сторону о том, что подлинная рукопись хранится у российского посла в Гааге. Не менее загадочно выглядят и ответы Дмитрия Алексеевича. С одной стороны, он пояснял, что никакой опасности ни наследники, ни друзья Гельвеция в случае публикации не подвергнутся, с другой — оговаривался: «лишь бы мы отклонили подозрения от того лица, которое передало рукопись и не разгласили способа, которым она была приобретена».
Возможно, что причины, побуждавшие посланника действовать подобным образом, были отчасти связаны с содержанием рукописи. Во всяком случае, оно казалось необычным даже Вольтеру, находившему, что «систематический ум» заставил Гельвеция «увлечься за пределы разума». И действительно — утверждение Гельвеция о том, что люди от природы одинаково способны к восприятию науки и только воспитание позволяет или не позволяет им реализовать свои способности, выглядело более, чем сомнительным. А для собратьев Гельвеция по философскому цеху — и обидным.
Но, все же не это было главным. Для издания рукописи потребны были деньги, а финансовые дела князя Дмитрия Алексеевича, как мы уже констатировали, к меценатству не располагали.
Стесненность в средствах обычно поощряет изобретательность. В данном случае, впрочем, особых усилий фантазии не требовалось. Зная действовавший порядок, Голицын отписал в Петербург, предлагая предпослать сочинению Гельвеция посвящение российской императрице. Екатерина, однако, пожелала прежде ознакомиться с рукописью. И тут вдруг началась непонятная канитель. Более года Голицын тянул с отправкой копии рукописи в Петербург, ссылаясь то на отсутствие опытного переписчика, то на другие благовидные причины. Кончилось тем, что на очередном письме его Екатерина, потеряв, очевидно, терпение, начертала: «Ожидаю заказанные мною копии; запрещаю посвящение; и нет мне дела ни до печатания, ни до подлинной рукописи».
Дальнейшая история с публикацией Гельвеция покрыта тайной. Достоверно известно лишь, что к приезду Дидро рукопись была все же отредактирована и набрана в издательстве все того же Марка-Мишеля Рея.