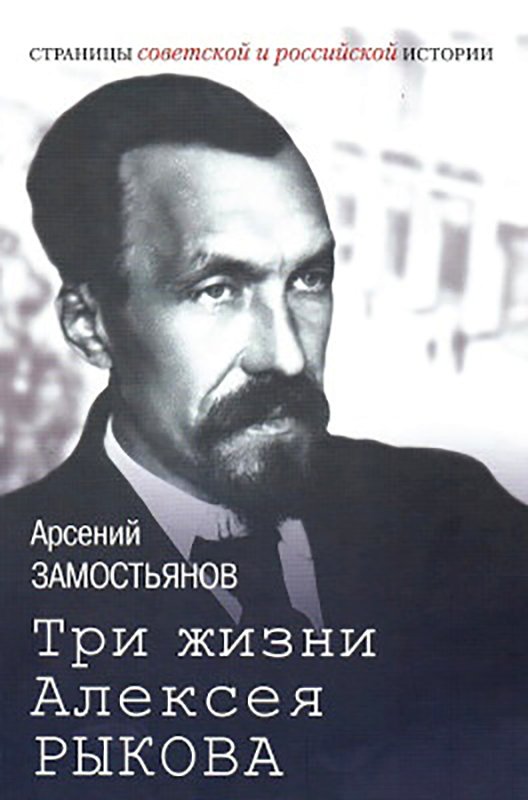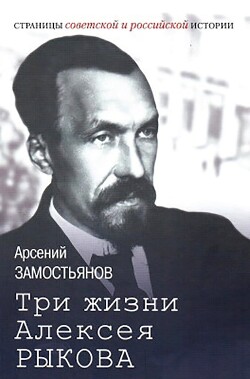нестандартное будущее.
Солдаты подчас относились к гимназистам старших классов как к офицерам — особенно в вечернее время, при слабом свете фонарей. Поблескивали золоченые пуговицы форменных шинелей, внушительно выглядели кокарды. Гимназисты выглядели солидно — и, конечно, в глазах горожан относились к «барам», а не к «простому званию», хотя Рыков больше соответствовал второму определению. Да и мечтал он, даже в первые гимназические годы, вовсе не о солидности, скорее о мятеже, о бунте, о баррикадах. Его идеалом оставались Французская революция и Парижская коммуна, хотя о последней в те годы гимназист знал немного. Торжественный блеск пуговиц к этим идеалам не имел никакого отношения. Уже в четвертом классе он носил их как нечто чуждое самому себе, привыкая к двойной жизни.
Но в уличных сражениях и Рыкову приходилось защищать честь гимназии. Виктор Чернов, еще один будущий революционер, учившийся в Саратовской гимназии чуть раньше Рыкова, вспоминал: «Для городских мальчишек один вид нашей форменной одежды и особенно кокард с инициалами С. Г. (Саратовская Гимназия) был явным вызовом и кровным оскорблением. Среди них пользовалась широкой популярностью кем-то изобретенная нелепо-издевательская расшифровка этих инициалов: „синяя говядина“. Известно, что говядина приобретает особый иссиня-красный цвет, изрядно протухнув. А потому задорный вопрос: „эй, ты, синяя говядина, почем за фунт?“ имел приблизительно то же значение, как брошенная в средние века одним рыцарем к ногам другого перчатка. Чтобы не терять чести, полагалось перчатку поднять и обнажить шпагу. А у нас это значило засучить рукава и вступить за честь гимназии в бой, кончавшийся тем, что один из бойцов бывал сбит с ног или просто сам бросался на землю: „лежачего не бьют“. Младшие гимназистики, которых в часы их возвращения из гимназии домой на некоторых улицах обычно ждала вражеская засада, собирались группами, чтобы проложить себе путь боями „стенка на стенку“, в которых с обеих сторон отличались свои Гекторы, Аяксы и Ахиллесы» [4]. Точно так же обстояло дело и в рыковские времена. Без кулачных боев и уличного противостояния, которое посерьезнее игр в казаки-разбойники, обойтись не удавалось. Рыков никогда не отступал, если завязывалась большая драка: малейшее проявление трусости считалось позором и запоминалось в мальчишеской среде надолго. Такого он допустить не мог! Алексей не отличался крепким телосложением, не считался богатырем. Сравнительно невысокого роста, не тщедушный, но и не плечистый. В уличных сватках ему помогали упрямство и хитрость. Он всегда был чуть-чуть умнее и авантюрнее ровесников, умел рискнуть, умел взять на себя обязанности вожака — а таких в мальчишеском мире всегда уважают крепко. Рыкову помогало самолюбие, упрямство — кстати, свойственное и его сестрам. Да, в нем можно было рассмотреть будущего политика.
Гимназическая эпопея Чернова и Рыкова пришлась на так называемые годы «толстовского классицизма» — пышного, вязкого, для свободолюбивых мальчишек — удушающего. Граф Дмитрий Толстой — воспитанник Царскосельского лицея — долгое время совмещал должности обер-прокурора Священного синода и министра народного просвещения. Такое положение вещей, символизирующее единство трех социальных институтов — государства, школы и церкви, вызывало активную критику в народнических и либеральных кругах. Его считали олицетворением мертвящей догматики — и с ностальгией вспоминали дотолстовские времена, когда и в университетах, и в гимназиях дышалось вольнее. Основательность образования он связывал исключительно с изучением мертвых языков и внешним лоском: гимназии традиционно располагались в лучших зданиях, а учились там главным образом отпрыски дворянских семей.
Из гимназической программы исчезла современная русская литература, которой идеологи побаивались, а она набирала ход, вступала в пору расцвета. Русскую словесность изучали «до Гоголя», причем критический анализ произведений не предполагался: в литературной критике тоже видели крамолу. Учителя и филологи пытались с этим бороться, находя нетривиальные аргументы: «Дайте в руки учащихся Тургенева и Гончарова и т. д., чтобы вырвать из этих рук „Тайны Мадридского двора“ и романы Дюма». Какой там Дюма — вольнолюбивый иностранец! Даже Тургенев считался слишком легкомысленным и политически опасным.
Строго обязательным стало посещение церкви и соблюдение православных обрядов — правда, как мы увидим, это правило не исполнялось неукоснительно. Выпускные экзамены по латинскому и греческому на аттестат зрелости, который давал право зачисления в университет, проводились строго, это отмечали даже немцы. Грамматику гимназистам приходилось зубрить.
Историк Антон Керсновский (1907–1944) писал: «На латынь и древнегреческий язык полагалось 2600 часов гимназического курса, тогда как на отечествоведение — русскую историю, географию и словесность — лишь 600 часов. Искусственно создавался тип лишних людей — многому ученых и ничему не обученных, тип „чеховского интеллигента“, мечтателя чужой старины, ревнителя чужеземной культуры, презирающего все русское по неведению. Насадитель „классицизма“ гр. Д. А. Толстой скопировал германскую классическую программу, забыв, что германская культура имеет своим фундаментом римскую, тогда как русская — совершенно другие, православные корни… Гимназии Толстого — Делянова были насилием над природой русских людей… Уклад их, превращавший учителей в тюремных надзирателей, а учеников в поднадзорных, дал поколение Керенского и Ленина». Это слова не социалиста, не апологета советской системы, а летописца русской армии, сформировавшегося в белой эмиграции. Думаю, Керсновский прав в том, что слияние обожествления античности с подневольным православием выглядело слишком противоречиво, и это ощущали даже младшие гимназисты. Невозможно объяснить, почему, чтобы стать опорой самодержавия, необходимо штудировать снотворную грамматику мертвых языков. И все-таки Толстого поддерживали многие консерваторы — главным образом из числа крупных государственных чиновников. Да и самодержцы — Александр II, Александр III — не видели в его политике опасности.
Таким было гимназическое образование с середины 1860-х до 1905 года — и как раз в это время в гимназиях получили образование будущие лидеры русской революции. Достаточно вспомнить Александра Керенского, Владимира Ульянова, Марию Спиридонову, Анатолия Луначарского, Николая Бухарина… Сплошь гимназисты, изучавшие древнегреческий и с ненавистью зубрившие латынь. А Рыков? А Чернов? Продолжать этот список можно долго — львиная доля лидеров революционных партий получили первую прививку от монархической лояльности в гимназиях, устроенных на толстовский лад. Не способствовали старания Толстого приумножению верноподданнических настроений, результат его консервативных контрреформ оказался обратным задуманному.
И все-таки гимназия давала юноше немало: приобщившись к основам научных знаний, он, чтобы наедине с самим собой оспорить преподавателей, принимался за чтение. Клавдия Ивановна, без сомнений, сыграла важную роль в судьбе брата, и он никогда об этом не забывал. Она никогда не попрекала его рискованными увлечениями «революцией», потому что и сама эпизодически участвовала в подпольном движении. Еще глубже втянулась в революцию другая сестра Рыкова — Фаина. Она была старше Алексея на три года и, скорее всего, раньше него заинтересовалась политикой и сомнительными для гимназического начальства книгами. Позже ее мужем стал Владимир Иванович Николаевский — высоченный, статный сын священника. Как и многие поповичи, он был