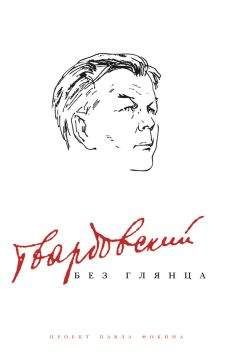«Брат Александр имел какое-то свойство своей натуры, не позволявшее при нем вести себя не только развязно, но и просто раскованно, без напряжения или какой-то доли смущения. Это я чувствовал с детства. И не один я, но и все наши родные, близкие, за исключением, может быть, только отца. Могу смело сказать, что все мы любили его, но наши встречи с ним никогда не были легкими, свободными, снимающими нервную напряженность». [2; 31]
Вениамин Александрович Каверин:
«‹…› Между ним и собеседником сразу же устанавливалось подчас незначительное, а подчас беспредельное расстояние. Возможно, что это было связано с прямодушием Твардовского. Из гордости он не желал скрывать свои мнения». [2; 328]
Лев Адольфович Озеров:
«Внешне он был выдержан, спокоен, старался быть уравновешенным, что называется – владел собой. Но надо знать, какой ценой далось ему это. В нем была большая скрытая сила. Встретив человека, он начинал не с недоверия к нему, а с пристального приглядывания: в душе прикидывал дистанцию, на которую надо было впускать того или иного человека в свою жизнь. Эта дистанция диктовалась, разумеется, не утилитарными, не меркантильными соображениями, а выработанными с детства в крестьянской среде понятиями о человеческом достоинстве». [2; 116]
Алексей Иванович Кондратович:
«Твардовский трудно и медленно сходился с людьми, это, кажется, отмечают все, кто знал его. И причиной тому не недоверчивость – он был начисто ее лишен, – пожалуй, он был слишком доверчив и по первой встрече чаще всего переоценивал человека. Сколько из-за этого пережил потом разочарований в людях, порой тяжких. Он был открыт, хотя далеко не нараспашку, был прекрасным собеседником, легко вступал в любой разговор, но при всей общительности круг близких ему людей всегда был невелик». [3; 154–155]
Владимир Яковлевич Лакшин:
«При мало-мальски близком знакомстве с ним легко приоткрывалась его доверчивость. Да, при всей пронзительной остроте ума, он был человек по-детски доверчивый, потому что верил в справедливость и ждал ее от жизни.
Он был жаден до новостей, и новостей добрых. Бывало, сложится в редакции тревожный, невеселый день. А. Т. сидит за столом в кабинете, сигарету в руках мнет, табак сыплется на пиджак, глаза настороженно, недобро щурит. Обдумывает что-то, и пока твердо для себя не сформулирует, вслух не скажет.
Но вот приходит кто-то с доброй вестью, или просто симпатичный человек набежит, разговорит, пошутит, – и А. Т. рассмеется вдруг от души, видно решив про себя, что дела не так уж и худы.
Были у него любимые цитаты-присловья на эти случаи.
– Погадаем-поглядим, что нам скажет Никодим. (A Никодим что-то помалкивает, – частенько добавлял он.) ‹…›
Твардовский истово верил, что любое зло ненадолго, любая беда минет, что надо ждать от жизни добрых перемен, от людей – хороших вестей. А если узнавал что невеселое, но привычное, говорил со смешком, крутя головой:
Ну, спасибо, ямщик. Разогнал
Ты мою неотвязную скуку.
Он охотно обольщался посулами радости и добра. И при всем своем здравом и скептическом уме был легковерен к доброму». [4; 142–143]
Лев Адольфович Озеров:
«Честолюбие его было глубоко упрятанным, корневым, крепким». [2; 121–122]
Юрий Валентинович Трифонов:
«Позднее, когда я узнал Александра Трифоновича ближе, я понял, какой это затейливый характер, как он наивен и подозрителен одновременно, как много в нем простодушия, гордыни и крестьянского добросердечия, как легко он поддается внушениям, как трудно меняет свои мнения о людях». [2; 477]
Федор Александрович Абрамов:
«Твардовский был подозрителен и доверчив, поддавался на нашептывание». [12; 263]
Владимир Яковлевич Лакшин:
«Может быть, не был он лишен смолоду тщеславия, наверное даже не лишен, но по тому, как он отказывался от всяких почестей и славословий, в том числе в юбилейные свои дни, видно было, что он в себе это отжил». [4; 166]
Федор Александрович Абрамов:
«В Твардовском было сильно развито приспособленчество… Но он побеждал в себе раба. При всем при том – дай бог второго Твардовского. Он вышел победителем из схватки с системой подкупа, захваливания, лжи…» [12; 260]
Владимир Яковлевич Лакшин
«Неопределенности он не любил и частенько вспоминал присловье капитана из романа „Моби Дик“: „Вперед, и к черту в пекло“». [5; 261]
Лев Адольфович Озеров:
«На себе испытал я, что отношение Твардовского к людям было очень неровным. Всегда трудно было сказать, когда он приласкает, когда обидит, даже оскорбит. Он был неизменно верен своему душевному состоянию, а оно менялось, как погода перед весной, – то повеет теплом, то снова хмурь и непогодь. Ему мучительно трудно было „властвовать собой“, а так хотелось. В нем все время что-то боролось, что-то брало верх, потом „западало“, с тем чтобы снова оказаться на поверхности». [2; 122]
Маргарита Иосифовна Алигер:
«Помню отчетливо конец жаркого летнего дня, и как, словно дозрел этот день, золотело небо к горизонту, и как шли мы через поле той самой тропинкой с Александром Фадеевым и Александром Твардовским. Они отдыхали неподалеку в санатории, я приехала из города, условившись о встрече с Александром Александровичем, но они встретили меня вдвоем, и мы пошли знакомой тропинкой на знакомую прогулку. Твардовский был оживлен, даже весел, даже беспечен – он не часто бывал таким, – видимо, хорошо поработал с утра и весь как-то рассвободился, расковался, и было удивительно легко и радостно находиться рядом с ним.
Он шутил, хохотал, перебивал нас, весело комментировал скудные литературные новости, привезенные мной. А когда подошли к реке, внезапно решил купаться.
– Жаль, нет полотенца, ну да ничего, мигом обсохну. Теплынь-то какая! Грех не искупаться.
Он отошел в сторонку, за густые кусты, и очень скоро мы услыхали плеск воды и его восторженные возгласы, обращенные к нам. Мы отвечали не менее восторженно и так перекликались несколько минут. Но вдруг что-то случилось, что-то нарушило весь наш предвечерний мир. В наш веселый покой вторглись совершенно посторонние, непонятные звуки… Кто-то свистел и отвратительно, пронзительно кричал. Оглянувшись, я увидела, что с песчаного косогора, увязая в песке и спотыкаясь, бежит милиционер, взопревший в своей гимнастерке, красный, злой, разъяренный. Притихли мы с Фадеевым, притих Твардовский в реке, недоумевая, прислушиваясь, пытаясь понять, что, собственно, стряслось.