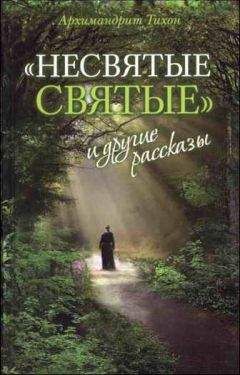Каждое воскресенье старичок Пандазис вместе с кардиологом Перидисом ходили в хоспис, где помогали служить литургию: Пандазис пономарил, а Перидис пел. Потом, неся перед собой свечу, он вместе со священником обходил палаты, чтобы посредством Святых Даров преподать умирающим Христа.
Любовь ко Христу была у Пандазиса глубокой и сильной, а память о его благоговении навсегда осталась в моём сердце. Я видел его проявления в самых разных обстоятельствах. Когда он подходил к причастию, то весь был как огонь, как пожар, весь горел желанием соединиться со Христом. Он так раскрывал свои уста, как будто хотел принять внутрь всё: и Христа, и лжицу, и святую Чашу, а заодно и руку священника! То, как он брал плат[29], оставляло в сердце глубокое чувство сознания им своего недостоинства и греховности: «К Богу приближаюсь, Бога принимаю, Христос в моём сердце, да не опалюсь! Обожи меня, как Сам ведаешь, Господи».
Другой случай: когда в 1978 году мы готовились к празднованию Пасхи, то поселили его в келье епископа.
– Отче, а кого Вы обычно здесь селите?
– Епископа, когда он приезжает.
– Вы хотите, чтобы я лёг спать на постели епископа? Исключено! Я, не достойный неба и земли, пришёл в монастырь за благословением, а не за проклятием.
В конце концов мы заменили постель, чтобы уложить врача, изгладившего в себе всякий след рационализма, насаждаемого наукой в человеческом сердце.
В одну Великую Субботу мы получили настоящее удовольствие от того, как он читал Деяния апостолов. Он дал нам хороший урок того, как следует читать эту святую книгу. Его манера чтения поразила нас в самое сердце, так что мы отпраздновали Пасху ещё до её наступления. У нас было чувство, как перед чтением Евангелия: мы знаем, когда оно начнётся, но не знаем, когда закончится. Так и Божественная литургия: мы знаем, во сколько она начинается, но не знаем, во сколько закончится. Так бывает и со всем, что касается нашего спасения. Даже само совершенство преподобный Иоанн Лествичник называет не имеющим конца[30]. Мусульмане раньше не хотели печатать Коран в типографии, предпочитая переписывать его от руки (потому книгопечатание в Турцию и пришло так поздно). Так и я, с тех пор как услышал чтение врача, боюсь услышать чтение Евангелия устами человека с равнодушным сердцем и не умеющего читать.
С носящих рясу он никогда не брал денег, считая святотатством наживаться на тружениках благовестия.
– Даже когда приходит ко мне на осмотр какое-нибудь духовное лицо и я прикасаюсь к его телу, то считаю это для себя великим благословением. «Если только прикоснусь к одежде Его, спасусь»[31].
Вот уже целое столетие он громко взывает к нам: «Христос есть жизнь и свет миру!» Раньше он говорил об этом в своей больнице, а теперь и из могилы.
Ставрула из Атталы на острове Эвбея
Ставрула отличалась глубоким благоговением во всём, что касалось Церкви, а также терпением и трудолюбием. Отец её был святым человеком. За то, что его сын служил в армии, разбойники утопили его в Эгейском море, привязав к шее большой камень. Через несколько дней нашлось его тело, стоявшее в море подобно телу святого Космы Этолийского. У Ставрулы было пятеро детей. Она никогда не садилась есть хлеб, если перед этим хорошенько не потрудилась. «Отец мой», «Феоктист мой» – так она ко всем обращалась. В её устах всегда было это любезное «мой»[32], хотя её муж, человек суровый и ворчливый, нечасто бывал ей в радость.
Иногда она звонила нам по телефону.
– Чем занимаетесь, госпожа Ставрула?
– Стараюсь исполнять обязанности невестки, чтобы свёкор на меня не сердился и не было разлада в семье.
Иногда её брат хотел уязвить её, но она отвечала ему словами святых.
– Вот, сестрица, выучился твой сын грамоте, но что из него вышло? Какой-то монашек. Хотя, может быть, он уже стал архиереем?
– Да, братец, мой сын оказался достоин монашества.
То, что её сын стал монахом, было для госпожи Ставрулы предметом гордости, и она постоянно этим хвалилась: «Мой сын – монах на Святой Горе!»
Однажды, когда мы были с ней одни, она призналась: «По ночам я часто просыпаюсь и спрашиваю себя: «Как живётся моим детям? Я-то сегодня вечером ела, а они как?»»
На протяжении многих лет она бесплатно готовила для монастыря блины и кашу, а Великим постом приносила ещё и сушёный инжир. И теперь мы, монахи, время от времени черпаем силы в воспоминаниях об этой скромной матери.
Она была рассудительной и в то же время застенчивой, как маленькая девочка. Как-то ночью она и её супруг пришли на подворье нашего монастыря в Фессалониках и предпочли всю ночь оставаться у ворот, лишь бы нас не побеспокоить.
Жизнь в селе, сопряжённая с тяжёлым трудом, освящает человека. Она часто давала нашему монастырю людей намного более приятных, чем те, кто воспитывался в квартирах и университетских аудиториях больших городов, и поэтому я от всего сердца могу воскликнуть: «Радуйся, пустыня, радуйтесь, леса и горы, склоны и вершины, ибо прекрасны ваши воспитанники!»
Валашка[33] из селения Панайя в области Катара[34]
Она была матерью восьми детей, у неё была красивая фигура, а лицо такое светлое и чистое, как горные источники её родины. Её муж был калекой, получившим увечья на проклятой войне[35]. Она была вынуждена тяжело работать тяпкой и мотыгой, пахать на паре волов и жать серпом, чтобы прокормить свою многочисленную семью. Когда она состарилась и от перенесённых трудностей и страданий заболела болезнью Паркинсона, то часто читала мне такое двустишие:
Не могу я больше видеть
эту тяпку и мотыгу!
Она была матерью, которую дети любили необычайно. Я помню, как кричал её сын, когда болезнь свела её в могилу: «Мамочка, мамочка, открой глаза!»
Эта мать, никогда не учившаяся в школе, во время моих посещений её села сначала спрашивала меня: «Отче, все твои чада в порядке? Дай-то Бог!»
А потом она спрашивала о своём любимом Афанасии, и при этом на её прекрасные глаза набегали слёзы.
– Как хорошо ты говоришь мне это, госпожа Вангельй![36]
– Отче, сердце матери всегда болит за своих детей. Когда я ещё владела своими ногами, то оставляла в церкви яйцо взамен свечи, которую брала. А теперь, когда у меня есть копейка, чтобы оставить в храме, у меня отнялись ноги. Они уже не помогают мне ходить в церковь, а ведь это было моей единственной радостью.