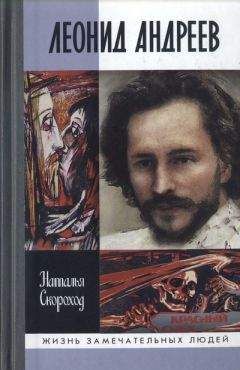Глава большого семейства Николай Андреевич Манцев (под этим именем выведен в «Младости» старший Андреев) не лишен юмора, полон чувства собственного достоинства: «…взгляд… орлиный, всегда немного исподлобья, гордый: ко мне не подходи, я сам все вижу, спуску никому не дам…», он — хозяин слова, хозяин дома и единственная опора и стержень семьи: главный плотник, механик и садовод, его сокровенная мечта — стать помещиком: «на будущий год я решил: бросаю банк — и в деревню. Мне Иван Акимыч говорил: есть тут одно именьице десятин семьдесят, но пречудесное… Вот бы!». А вот внутренний мир, духовная и интеллектуальная жизнь главы дома закрыты для автора пьесы, а может быть — страшно сказать — нет ее у героя и вовсе — внутренней жизни. Всеволоду — старшему сыну Манцева и протагонисту «Младости», в котором конечно же Андреев вывел себя самого, кажется, что душу отца не знает никто и что есть у того какая-то глубокая тайна, грусть на сердце, которую, впрочем, и уносит он с собою в могилу.
Присутствие душевной «трещины», впрочем, думаю, так никогда и неосознанной, действительно имело место у Андреева-старшего, и это подтверждается многочисленными свидетельствами о его тяжелом запойном пьянстве. Слегка затушеванная, есть эта черта и в «Младости»: герои пьесы вспоминают, что положительный ныне Николай Андреевич Манцев много пил в прошлом. Исторический же Николай Андреев «пил запоем, пьяный, нередко устраивал скандалы, драки, о которых наутро узнавал город, падкий до сплетен. Когда Николай Иванович начинал гулять, все в доме Андреевых становилось вверх дном»[12]. В дальнейшем пьянство до черноты, пьянство как мания, пьянство как развлечение, как лекарство и как болезнь сыграет немалую роль в жизни Леонида Андреева, и эта мания конечно же перешла к нему по наследству от отца. Орловский исследователь Леонид Афонин так реконструирует загулы пьяного Николая Андреева: «…в доме собирались гости, из погреба вытаскивались вина и наливки, ведра пива, и начинались пьяные ночи». Независимый и неукротимый нрав Андреева-старшего в пьянстве проявлял себя в полной мере: «хозяин любил „пошутить“: то заснувшего гостя пришьет к тюфяку, свяжет ему руки и, внезапно разбудив, заставит бегать по комнатам, то, взобравшись на крышу, изо всех сил примется барабанить по железу, изображая грозу»[13].
Пьяный отец и пьяный муж не раз встречаются у Леонида Андреева, писатель рисует подчас дикие и страшные картины бытования своих земляков: пьяница, сапожник Тараска из рассказа «Весенние обещания», раз — беременную — ударил свою жену Марью в живот так, что «она скинула», а другой раз — выбил ей глаз, и когда та за спасением и заступничеством прибежала к своему отцу — кузнецу Василию Меркулову — тоже пьянице: «перед испуганными глазами встало окровавленное и страшное лицо Марьи. Она задыхалась, рвала на себе уже разорванное мужем платье и бессмысленно кружилась по хате, тыкаясь в углы. <…> У нее была ушиблена голова, она ничего не понимала и в диком ужасе царапалась ногтями и выла. Левый глаз у нее был выбит каблуком». Но эта, казалось бы, предельно страшная картина еще не предел: «К вечеру Меркулов был пьян, подрался с зятем Тараской, и их обоих отправили в участок. Там их бросили на асфальтовый грязный пол, и они заснули пьяным мертвецким сном, рядом, как друзья; и во сне они скрипели зубами и обдавали друг друга горячим дыханием и запахом перегорелой водки». Избиение беременной жены пьяным чудовищем-мужем возникнет еще не раз: «выкинула» первенца после побоев пьяного мужа и мать Сашки Жегулева.
Что ж, к счастью, семейные предания Андреевых не оставили столь безобразных картин пьянства в семье самого Ленуши, и хочется надеяться, что рассказ «Весенние обещания» не имеет отношения к жизни его отца, однако подобное частенько происходило за окном и — как пожар — всегда могло перекинуться и на андреевский — такой надежный с виду — дом. Темное пьянство было бытом, жизнью Пушкарной слободы и всякий день, глядя в окно, мальчик Андреев мог наблюдать, как пьют совсем еще юные люди: «По противоположной стороне шли четверо пьяных, одетых в длиннополые сюртуки, высокие узкие сапоги и картузы, у которых поля были острые как ножи… Все четверо были молоды и шли с совершенно серьезными и даже печальными лицами. Один, высоко держа гармонику, наигрывал однообразный трескучий мотив, от которого в глазах желтело». В том же рассказе «У окна» есть и более жуткий образ — пушкарские дети, подражая взрослым, играют «в пьяных», берутся за руки и идут по улице, распевая, — «и вместо гармоник, держали в руках чурки, они изображали этот мотив … Ган-на-нидар, ган-на-нидар-ган-на-нидар, най-на». Так пьянство «врастает» в душу человека с ранних лет: в замысле «Ангелочка» есть строчка: посланный за водкой отцом Сашка на обратной дороге отпивает из бутылки и понимает: «Здорово!»
Характерно и то, что все или почти все андреевские пьяницы, а без них не обходится ни один текст о житье-бытье маленького провинциального города, обязательно проходят через миг «просветления», когда «…чудилось погибшему человеку, что он услышал жалеющий голос из того чудного мира, где он жил когда-то и откуда был навеки изгнан. Там не знают о грязи и унылой брани, о тоскливой, слепо-жестокой борьбе эгоизмов; там не знают о муках человека, поднимаемого со смехом на улице, избиваемого грубыми руками сторожей». Та самая душевная трещина, которая несомненно была у пьяниц-персонажей и которая, возможно, мучила и отца, представлялась писателю Андрееву неосознанной тоской по красоте, которой его герои не могли заметить в окружающей жизни и которую ни создать, ни представить были не в состоянии — в силу духовной неразвитости. И собственный отец-богатырь, возможно, виделся Андрееву чем-то вроде загадочной античной статуи, «жесткой волею судьбы брошенной в грязь провинциального захолустья».
Проникнуть в душу этого огромного чиновника-силача, увы, не представляется возможным и нам с вами. Отношения отца и Леонида не были ни доверительными, ни дружескими: с детьми Николай Иванович держал себя строго, правда, как вспоминал сам Андреев, его — своего первенца — он выделял и отчего-то ценил. И, разумеется, едва ли мог стать Николай Иванович воспитателем и наставником будущего писателя. Во всех автобиографиях Андреев и сам неизменно подчеркивал, что «влечение к художественной деятельности наследственно опирается на линию материнскую».
Женился отец писателя рано и, что называется, «по любви». Что-что, а любовь Андреева-старшего никогда не подвергалась сомнению Настасьей Николаевной: «Он знал, что я люблю бублики. Купит для меня целую сотню, наденет на шею — вязка чуть не до полу — идет, все говорят: вот как Николай Иванович любит свою жену»[14]. В Орел Настенька Пацковская приехала из маленького городка — Севска. Этот старинный (с XII века стоящий) одноэтажный каменный городок в Орловской губернии (теперь — в Брянской области) сохраняет свой полудеревенский облик и по сей день — в центре города по газонам все еще, как и полтора века назад, бродят куры. В семье полагали, что ведут свой род от разорившихся обрусевших шляхтичей, хотя точных подтверждений этому нет. Почему прозвали Анастасию Николаевну поповной — тоже неясно, ее внук Вадим Андреев предполагал, что мать Настеньки была дочерью священника. Николай, отец Настеньки, умер, когда она была ребенком, семья страшно бедствовала, и как только старший брат надежно обосновался в Орле — к нему на содержание отправили сестру Настасью.