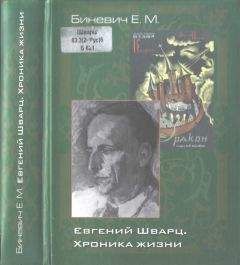По воскресеньям — отец и сын — ходили обедать к деду. Женя эти обеды любил, потому что и старики, и дяди с тетями принимали его ласково, с любовью, угощали вкусно. А позже он запишет, как в 1904 году, на лето уезжая с матушкой и братом в Одессу, они проездом останавливались в Екатеринодаре; и добавит:
— Бабушку свою я видел тем летом последний раз в жизни, по дороге в Одессу, а с дедушкой подружился и простился на обратном пути. Дед, по воспоминаниям сыновей, молчаливый, сдержанный и суровый, мне, внуку, представлялся мягким и ласковым. Всю жизнь он сам ходил на рынок, вставая чуть ли не на рассвете. Мы с Валей ждали его возвращения, сидя на лавочке у ворот. Издали мы узнавали его статную фигуру, длинное, важное лицо с эспаньолкой, и бежали ему навстречу. Он улыбался нам приветливо и доставал из большой корзины две сдобные булочки, ещё теплые, купленные для нас, внуков. И мы шли домой, весело болтая, к величайшему умилению всех чад и домочадцев, как я узнал много лет спустя. А в те дни я считал доброту и ласковость дедушки явлением обычным и естественным».
На обратном пути в Майкоп они снова ехали с пересадкой через Екатеринодар, и дедушка неожиданно пришел их проводить.
— Когда мы уже сидели в поезде, я, глядя в окно, вдруг увидел знакомую, полную достоинства фигуру деда… Он был несколько смущен вокзальной суетой. Поезд наш стоял на третьем пути, и дедушка оглядывался, чуть-чуть изменив неторопливой своей важности. И увидев меня у окна, он улыбнулся доброй и как будто смущенной улыбкой, шагая с платформы на рельсы, пробираясь к нам. Он держал в руках коробку конфет. Много лет вспоминалось старшими это необычайное событие — дедушка до сих пор никогда и никого не провожал! Он, несмотря на то, что мама была русской, относился к ней хорошо, уважительно, а нас баловал, как никого из своих детей. И вот он приехал проводить нас, и больше никогда я его не видел. В прошлом году я простился с маминой мамой, а в этом — с папиными родителями.
В Рязани, в Рюминой Роще, где снимали на лето дачу матушкины родители, все было иначе — проще, веселее. Здесь Марию Федоровну звали не Маней, как в Екатеринодаре, а Машей. Отец её — Федор Сергеевич Шелков — был цирюльником. Точнее — владельцем парикмахерской. Но помимо стрижки, бритья, мытья головы и прочего, производились здесь и иные операции. Могли поставить пиявки, или отворить кровь, или выдернуть больной зуб, поставить банки и прочая и прочая.
Федор Сергеевич считался незаконнорожденным сыном рязанского помещика Телепнева, но носил фамилию Ларин. Женившись же, записался на фамилию жены, вероятно, чтобы забыть о своем незаконнорождении. Умер он рано, в 1900-х годах, от кровоизлияния. Когда Евгений Львович начал только писать, отец советовал ему взять псевдонимом ту, дедову фамилию — Ларин. Лев Борисович считал, что русскому писателю пристала и фамилия русская. Но Женя не решился. Ему казалось, тогда все будут думать, что он что-то скрывает. Да и не смел он ещё считать себя писателем.
После смерти мужа бабушка Александра Васильевна осталась с семерыми детьми. Ютилась семья Шелковых в небольшой квартирке. Дети росли бойкими, охочими до насмешничества, любили игру, розыгрыши, шутки. Мария Федоровна часто вспоминала, как привезла Льва Борисовича знакомить с родней и как её братья, пока играли с ним в городки, задразнили его до того, что он вспылил и собрался даже укладывать чемодан.
Собирались на каникулах дети под родительский кров не все и не всегда. Старший сын Гавриил, дядя Гаврюша, был акцизным по винным лавкам, жил в Жиздре. Федор окончил юридический факультет и заседал в одесском суде. Николай работал в конторе Тульского оружейного завода. Сестры — Саша, Катя и Зина — повыходили замуж и тоже разъехались кто куда.
Но в ту пору почти все ещё жили вместе и были очень талантливыми актерами. Мария Федоровна считалась неплохой характерной актрисой. Выступали в любительском кружке, которым руководил барон Н. В. Дризен, в скором будущем известный историк театра, один из руководителей петербургского «Старинного театра». В основном ставили Островского. Когда восемнадцатилетняя Маша сыграла Галчиху в «Без вины виноватые», Дризен не хотел верить, что она не видела в этой роли Садовскую. Иван Иванович Проходцев, сын Александры Федоровны, т. е. двоюродный брат Жени, уже в семидесятые годы хорошо ещё помнил «Грозу», в которой «Мария Федоровна играла Кабаниху, мама — Катерину, а дядя Гаврюша — Дикого». Когда с кем-нибудь из детей случалось некое расстройство, шутили, что его посетил Дризен.
Впоследствии у Евгения Львовича было такое чувство, что в Рязани они бывали чаще, чем в Екатеринодаре. И «вероятнее всего», — предположил он, — «дело заключалось в том, что в те годы я жил одной жизнью с мамой, и вместе с нею чувствовал, что наш дом именно тут и есть. И рязанские воспоминания праздничнее екатеринодарских… Мало понятный мне тогда, бешено вспыльчивый отец, обычно исчезал, будто его и не было».
Частые переезды семьи Шварцев были связаны ещё и с последствиями студенческой жизни отца. В 1898 году он закончил Университет и получил назначение в город Дмитров, что под Москвой. Но прожили они здесь недолго. Вскоре Льва Борисовича арестовали по делу о студенческой социал-демократической организации, которую раскрыли уже после их отъезда из Казани.
Вначале его увезли в Москву, потом — в Казань, и Мария Федоровна с сыном следовали за ним. Снова полустанки, вокзальные буфеты, пересадки, стук колес, тряска; снова Женя сидит на столике перед окном. Ему хорошо.
В Казани Мария Федоровна добилась свидания с мужем.
— Папа сидит по одну сторону стола, мама по другую, а посередине уселся бородатый жандарм, положив на стол между ними руки. Я бегаю по комнате и кричу. Мне надоело слушать разговоры старших. «Не кричи! — говорит отец. — Полицейский заберет». — «А вот полицейский!» — отвечаю я и показываю на жандарма. И он смеется, и родители мои смеются, и я счастлив и доволен. Любопытно, что это я запомнил. А страшную, напугавшую меня чуть не до судорог сцену, разыгравшуюся в конце свидания, забыл начисто, просто выбросил из души. Очевидно, она была уж слишком тяжела для моих трех лет. Когда, прощаясь, отец поцеловал маму, жандарм вдруг схватил её руками за щеки. «Выплюньте записку, я приказываю!». Отец бросился на обидчика с кулаками. Вбежали солдаты, конвойные. Отца увели. Я визжал так, что потом целый день не говорил, а сипел. Мама плакала. Её все-таки обыскали, но никакой записки не нашли. Бородачу, которого я только что рассмешил, просто почудилось, что папа, целуя, передал записку маме.