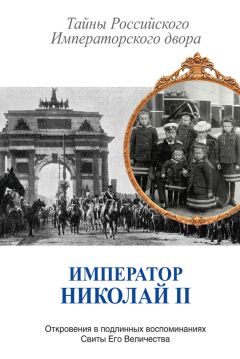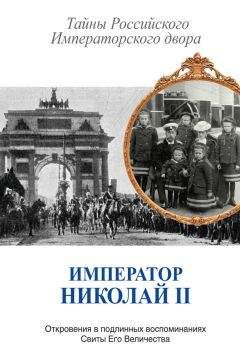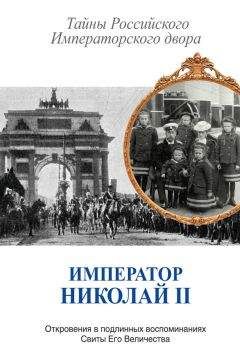«Запросы мысли» (1906)
Очень рано ум Юлии стали волновать метафизические вопросы. Сначала это было таинство смерти, так как самоубийство отца в 1888 г. ее глубоко поразило.
«Смерть… Она всегда, с самого моего детства, казалась мне близкой и родной, никогда не внушая мне страха, а наоборот, неудержимо к себе притягивая. Влечение к ней было так сильно, что часто мне приходилось, и доныне приходится, бороться с позывом к самоубийству – не вследствие каких-либо разочарований и жизненных тягот, невзгод, а просто в силу непреодолимого стремления к величавой загадке смерти. Словно влюбленный, не отрывающий взора от любимых очей, стояла я всегда очарованной перед темноокой красотой Смерти, всегда готовая кинуться очертя голову в ее объятия и потонуть в ее бездонной глубине… […]
Родная, вечно загадочная, склонялась она надо мною в мои детские годы и убаюкивала меня песнью о неведомой, сказочной области небытия. И позже, в юные годы увлечений и бурь, немолчно звучала в душе моей эта странная песнь знакомым призывом, манящим в неведомую даль, вдали от суетного и чуждого мне мира. И ныне, в годы зрелых дум и утомления жизнью, все тот же напев баюкает сознание и уносит его в туманную даль, к родному краю бесплотной мечты надзвездного простора…» [24]
В «Наедине с собой» содержатся несколько замечаний о влечении к смерти. В марте 1916 г., в разгар войны, Юлия восклицает: «Как обаятельна смерть!» (с. 47). И в 1921 г.: «Снова кажется, что нет иного решения загадки жизни, чем отречение от любого смысла, от любых исканий, от самой жизни, и единственная покорность в последнем порыве – броситься в объятия Смерти…» (с. 88).
В «Ночных письмах»* Юлия пишет:
«В молодости, в полном расцвете – или скорее в вулканическом извержении – моей жизненной энергии, мне часто приходилось бороться с навязчивой идеей самоубийства, беспричинного самоубийства, без всякого повода, ради единственного желания совершить насилие, а возможно, также из любопытства к потустороннему миру…» (гл. 4).
Вступление Юлии в армию во время войны, присоединение к Христову воинству после революции, в разгар антирелигиозной борьбы, может выглядеть попыткой самоубийства. Но воля к победе при встрече с опасностью свидетельствует также и об отваге, с которой Юлия преодолевает это жуткое желание.
Несмотря на отца-атеиста, на отсутствие религиозного воспитания (закон Божий, преподаваемый неверующим гувернером, не в счет) и даже Библии в ее доме, на общую религиозную индифферентность (в лучшем случае) ее класса, где религия была лишь соблюдением приличий и знаком патриотизма («ты был православным, потому что русский, и считали себя верным чадом национальной церкви, не питая ни интереса, ни уважения к ее учению» [25]), Юлия, не имея религиозного образования, самостоятельно принимается искать ответы на свои метафизические вопросы. Конечно, она любила и хорошо знала православную литургию и религиозные песнопения, она даже руководила хором в деревенской церкви семейного имения, но малообразованное местное духовенство и традиционное христианство, далекое от мистических идеалов, не могли удовлетворять ее потребностям и духовным запросам [26]. В Петербурге пасхальная исповедь у о. Василия Певцова (1836–1908) – магистра Санкт-Петербургской духовной академии и преподавателя церковного права в Императорском училище правоведения, где учился брат Юлии, – сводилась больше всего к увещеванию быть послушной дочерью и к учтивым вопросам о здоровье девушки и ее матери. И Юлия ищет ответы сначала у философов-вольнодумцев XVIII века, а затем у отцов Церкви. В своей биографии от 1920 г., написанной от третьего лица, она пишет:
«Она поглощала с одинаковым усердием Юма, Гиббона, Руссо, Вольтера, Монтескьё, Гельвеция, великую энциклопедию XVIII века и немецкую философию XIX, особенно зачитывалась Шопенгауэром и увлекалась Спенсером. Все это беспорядочное чтение, отчасти совершенно не пригодное для подростка, должно было бы произвести в ее голове полный сумбур, но путеводной нитью для Ю<лии> Н<иколаевны> было ее увлечение античной культурой и ее историей, чему способствовало основательное изучение с детства латинского и греческого языка (вследствие совместных занятий с братом по программе Училища Правоведения). Мир классической древности в связи с историей позднейших историко-философских систем стал обрисовываться для Ю<лии> Н<иколаевны> в виде грандиозной духовной эволюции, бесконечно интересной по существу, помимо тех истин, раскрытию которых посвящены эти системы. В частности, ознакомление с вековой полемикой против христианства и в особенности высмеивание его догматов Вольтером возбудили в Ю<лии> Н<иколаевне> сильное желание ознакомиться с христианской догматикой и с основами христианского миросозерцания. К тому времени в руки Ю<лии> Н<иколаевне> (ей было около 15 лет) попала „Исповедь“ Бл<аженного> Августина, произведшая на нее неизгладимое впечатление своим описанием перелома в сторону веры и отказа от рационализма. Августин, а затем Василий Великий и Ориген стали ее любимыми писателями наравне с Платоном, Шопенгауэром и Спенсером (в последнем особенно увлекала ее его теория Непознаваемого [27])» (Венгеров).
Именно Спенсер открыл ей, что научное знание ограничено, что есть безбрежная область непознаваемого, и она потеряла вкус к философским системам, основанным на материализме [28]. Опираясь, по-видимому, на «Souvenirs» Юлии Данзас, Бурман сообщает о ее жажде чтения и об открытии ею для себя отцов Церкви, в частности Святого Августина и святого Иустина из Наплуза (обезглавлен около 165 г.), который оказал решающее влияние на формирование любознательного ума Юлии и принятое им направление.
«„Исповедь“ раскрыла перед тринадцатилетней девочкой философскую сторону христианства, о которой ей до этого никто не говорил. После этого она достала (в родительском доме это было не так легко!) и прочитала Евангелие; однако ее детский ум, поврежденный слишком ранним и серьезным чтением, оказался невосприимчивым к евангельской простоте. Африканский ритор заставил Юлию Николаевну задуматься над тем, что же такое христианство, раз оно привлекает и таких сильных людей. Под влиянием „Исповеди“ она решила перейти к чтению отцов Церкви. В книжном магазине Тузова она приобрела восемь томов творений св. Иоанна Златоуста, издание Казанской духовной академии. Однако после попытки читать последовало разочарование. Риторика в тяжеловесном русском переводе показалась ей нестерпимой, а добраться до сути она еще не могла. Решив, что другие отцы, может быть, более интересны, и вспомнив, что Церковь, наряду с Иоанном Златоустом почитает Василия Великого и Григория Богослова, Юлия Николаевна снова отправилась к Тузову в сопровождении неизменной англичанки. Пока приказчик доставал требуемые книги, взгляд Юлии Николаевны упал на скромный томик с заголовком „Творения св. Иустина Философа и Мученика“, находившийся среди прочих книг, разложенных на прилавке. Мелькнула мысль: „Раз философ, должно быть интересно!“ Святого Иустина присоединили тоже к покупке.
С него-то и началось чтение новых приобретений. Оно явилось поворотным пунктом в жизни молодой мыслительницы, каковой уже тогда стала Юлия Николаевна. Рассказ св. Иустина о своих исканиях, о разных философских учениях, не удовлетворявших его, показался ей таким близким, а путь его – таким понятным. А изумительные беседы на Шестоднев св. Василия Великого, его же – о Св. Духе или глубокая метафизика Григория Богослова! Перед юным умом раскрылся целый мир метафизических представлений, в котором он буквально был готов захлебнуться» [29].