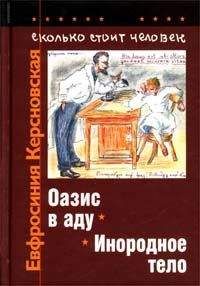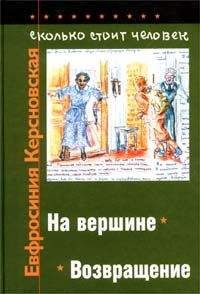Распухший как гора; голова распухшая, шаровидная, величиной чуть ли не с четверик, черного цвета, ничем не напоминающая черты человеческого лица.
А запах!..
Запах любого разлагающегося трупа отвратителен. Этот же труп был вдобавок какой-то полувареный, полупеченый, полугнилой, сладковато-тошнотворный. В довершение всего — горячий!
Вскрытие производила я под руководством Павла Евдокимовича, который, по обыкновению, страшно суетился, спешил и мешал.
Картина была ясна и не оставляла никаких сомнений: налицо было убийство.
Следы борьбы — ссадины, нанесенные еще живому. Размозженные вагонеткой ткани трупа. Отсутствие пятен Тардье, которые обязательно были бы на эпикарде при асфиксии и отравлении газами. И самое главное — это затылок, проломленный ударом тупого предмета. Кровоизлияния в мозг и в субарахнеидальное[17] пространство.
На то, чтобы разобраться в этом, едва ли потребовалось бы больше пяти минут, если бы Дмоховский успевал записывать протокол.
Но тут случилось непредвиденное.
Павел Евдокимович, суетясь и стремясь проявить активность, вдруг ринулся к полке, схватил банку концентрированного формалина, густого, как мед, и… вылил содержимое банки во вскрытую брюшную полость.
Что тут было!
Даже несколько капель формалина, вылитых на горячие внутренности, заставили бы всех чихать, а здесь — целая банка! Все схватились за носовые платки и ринулись к выходу, заливаясь слезами.
Я упала на топчан, задыхаясь от смеха и формалина, а Павел Евдокимович стоял с банкой в руках, чихал и повторял:
— Какой же я дурак!
Прокурор, чихая и кашляя, бормотал из-за дверей:
— Вы-то люди, должно быть, привычные, а нам с непривычки тяжеловато.
Да, за все эти тяжелые годы смеяться мне случалось, пожалуй, только в морге.
«Я убила своего ребенка!»
Но не следует думать, что в морге происходили исключительно комичные сцены.
Бывали и трагичные.
Однажды утром — мы не успели еще и позавтракать — дверь от толчка распахнулась и в прозекторскую с воплем ворвалась простоволосая полураздетая женщина:
— Я убила своего ребенка!
На вытянутых руках женщины беспомощно моталось тельце мертвого ребенка, очаровательной девочки месяцев пяти-шести.
Детоубийство — дело уголовное. И Павел Евдокимович связывается по телефону с прокурором Случанко, подробно пересказывая ему то, что успела сообщить убитая горем мать:
— Как это произошло? Да ведь теснота-то какая! Комнатушка метров одиннадцать. На столе старики, дед с бабкой. Под столом моя сестра. В углу, возле шкафа, квартирант с женой и ребенком. Ну а на кровати мы с мужем. В ногах двое старшеньких наших, а эта малышка возле меня.
— Сходите-ка вы сами на место происшествия, посмотрите, как там и что, — изрек прокурор.
Часа через полтора-два Павел Евдокимович вернулся.
— Ну, Фросинька! — сказал он, плюхнувшись на стул, и в удивлении развел руками. — Скажу я тебе, ума не приложу, как они живут. Единственное, что меня удивляет: как это бабушка не задавила дедушку? Как они не придушили квартиранта? И как вообще они не передушили друг друга?
Прокурор распорядился оставить дело без последствий. Состав преступления тут, безусловно, отсутствовал.
Бесперспективная ситуация
Если б я умела трезво смотреть на жизнь, то сразу бы сообразила, что со своим желанием добросовестно работать придусь в морге не ко двору. Если бы у меня сильнее был развит инстинкт самосохранения и слабее — совесть, мне следовало бы принять защитную окраску. Но… тогда я была бы не я.
Я не чистюля. Но я не могла примириться с тем, что называют показухой.
Уборка после окончания вскрытий сводилась к тому, что Павел Евдокимович, надев огромные резиновые перчатки, собственноручно размазывал по полу кровь, нечистоты, асцитную жидкость, гной и засовывал тряпку за батарею отопления.
Грязные топчаны, ставшие от засохшей крови похожими на изделия из дорогих сортов красного и черного дерева, покрывались чистыми простынями, а тела выпотрошенных и наскоро зашитых покойников санитары заносили в специальный ящик (на колесах или полозьях), заменяющий катафалк. И каждый принимался за свои, лично свои дела.
Никишин отправлялся на прогулку пешком до Горстроя. Эта прогулка называлась «Большой круг кровообращения». Дмоховский шел гулять, Артеев — на рынок; Жуко — также заниматься делами, то ли коммерческими, то ли любовными, а я… Я принималась за уборку. Настоящую.
Сколько селедочных головок, превратившихся в черную — вроде ихтиола — клейкую массу, выковыряла я из многочисленных батарей! Затем, вымыв половую тряпку, я принималась за мытье полов и вообще всего, что может быть вымыто.
За эти «санитарные мероприятия» мне крепко доставалось от всех: санитары ворчали, боясь, как бы и их не заставили работать, а Павел Евдокимович уверял меня, что это вредно и опасно, так как подобным образом можно разворошить инфекцию, помешав ей «самоуничтожаться».
Когда же я выстирала его простыни (были они цвета мореного дуба), он завопил, что этого не потерпит: они-де были пропитаны техническим вазелином, который, по его мнению, является лучшей дезинфекцией.
Больше я простыней не трогала, а делала лишь уборку.
Затем я принимала душ и садилась за учебники нормальной и патологической анатомии. Иногда приходилось рисовать для Кузнецова части органов, которые он удалял при операциях. Чаще всего это были отрезки тонкого кишечника.
Кузнецов писал научный труд об оперативном лечении геморрагических энтеритов[18]. Нужно было или нет удалять полтора-два метра кишки, я не знаю, но «подопытных кроликов» было достаточно.
Доставляли покойников в любое время дня и ночи, но чаще всего после полудня, когда оставалась я одна. Нередко мне приходилось вносить их без посторонней помощи. Это было не так уж трудно: трупы с периферии, особенно с Каларгона и Алевролитов, — это были трупы истощенных до предела людей. Случалось, я подхватывала пару жмуриков под правую и под левую руку и без особенного труда волокла их в покойницкую. Их доставляли иногда совершенно голыми, но чаще — в матрасниках, которые сразу же возвращались. Впрочем, самым возмутительным было то, что можно довести людей до такого состояния… Однако трудно сказать, какой вид смерти ужаснее.
Двери морга для всех были открыты. Над его дверьми надо было написать не напыщенную фразу Сорбонны «Здесь Смерть радуется тому, что может помочь Жизни», а просто — «Добро пожаловать!»