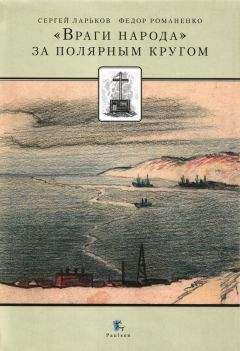– Малый-то у вас хороший, слов нет, – сказал сватам Костюха, – да куда же моя Катюха поставит свой сундук на колесах? Живут-то они в гнилушке, горницы – и то нет.
– Да они ж скоро построят новый дом.
– Ну, когда построят, тогда и поговорим.
После каждого сватовства отец опять за старое – за Дашку.
Приезжаю домой обедать. В этот день возил камни на завод. Дома была одна сестренка, – сидит и поет у окна. Не отпрягая лошадь, захожу, спрашиваю:
– Таня, а где же мама?
– Они с папашкой на базар ушли, закупать все, в воскресенье помолвка.
– Врешь!
– Будет притворяться – сам знаешь, а говоришь…
…И забилось у меня сердце. Что делать? Когда же они отстанут от меня? Решил скрыться из дому. Выпряг лошадь; плача, простился с сестренкой, которая тоже зарыдала.
Пошел сначала к писарю, просить удостоверение, чтобы получить в волости паспорт. Писарь не дал: «Молод еще сам брать паспорта, пусть придет отец». Тогда я пошел к дедушке. Прихожу, плачу, бабушка, глядя на меня, тоже в слезы. А дед говорит: «Прячься скорее, отец приехал – убьет».
Я через двор – на гумно. Снег глубокий, бегу, падаю, стараюсь добраться до соседнего сада…
Отец уехал, гроза миновала. Прожил я на полатях у деда два дня.
Бабушка говорит:
– Иди, Миша, к отцу крестному, поживи там, а то отец узнает, что ты у нас, и нам влетит от него.
Пошел к крестному.
Нужно Федору Рыжкову за сеном съездить за реку. У нас зимой возили сено по праздникам, помогая друг другу. Пошел Рыжков к моему отцу.
– Лошадь дам, Федор Григорьевич, – отвечает отец, – да Мишки-то нет дома – сбежал.
Вечером мне передали про этот разговор.
В три часа утра прихожу к Рыжкову.
– Дядя, я съезжу тебе за сеном, но ты скажи, что обойдешься и без Мишки. Я съезжу и опять скроюсь.
– Хорошо, сделаю, как ты говоришь.
Сижу, жду. Слышу скрип саней, а через минуту голос отца. Ну, думаю, пропал.
Входит отец.
– Здорово, пропащий. Ты что это вздумал фортики выкидывать?
– И буду выкидывать, пока не отстанете с Дашкой.
На этот раз обошлось без боя.
Как-то вечером собралось у нас много родных. Дед настаивал, чтобы женили меня на дочери Ивана Никитича Левшина.
– У них и мед свой есть, и девка хорошая.
Дедушке давно хотелось породниться с богатыми Левшиными.
– Ну, ты согласен взять ее? – спрашивают меня.
А мне уж все равно, только бы не Дашку.
Пошел дед к Левшиным, назначили на завтра поглядушки. Собралось нас человек двенадцать родных глядеть. С хуторов был дядя Гриша – мамин брат.
Приходим – ждут уже. Лавки вымыты, на столе скатерть белая, на стене полотенца чистые; и свежей соломой застлан пол. Садимся каждый на свое место по старшинству: во главе стола сел дедушка, за ним отец, мать, а потом – кто роднее и старше. Я сажусь позади, со мной рядом товарищ. Церемония происходит так. Невеста нарядилась в лучший наряд. Суют ей в руку тарелку, на тарелку ставят рюмку, наливают самогону. За переборкой у печки стоят ее родные, они-то и наполняют рюмку.
Невеста должна подойти вначале к дедушке, поклониться ему, – он возьмет рюмку, выпьет, поставит обратно, а она опять идет за переборку наполнять рюмку, и так подряд, по очереди, ко всем. А когда она подходит – в это время смотри, какова она: не хромает ли, не кособокая ли. Ко мне невеста подходит к последнему, но я не должен брать рюмку и пить, а должен встать, и мы одновременно кланяемся друг другу. Потом женихова сторона должна выйти во двор посоветоваться, а невестина остается в избе и тоже советуется. Потом снова собираются в избе. Жениха уж тут не пускают. Если понравилась, начинают сговариваться, а если нет, то отказывают.
– Ну, сколько же укладка? – спросил отец.
– Пятьдесят рублей.
– Э, да это ты дорого, Иван Никитич, вот хотите – двадцать пять рублей.
Сошлись на тридцати рублях, в приданое два полушубка, один новый, другой старый, но перешитый, полусапожки с галошами, валенок две пары и много другого добра.
Идем домой с дядей Гришей; покуривая, он говорит:
– Зря ты ее берешь, уж очень она паршивая бабенка: маленькая и худая. Разве у нас в роду Плешаковых были такие?
На другой день пошли отказываться от невесты, а там говорят – мы еще один полушубок добавим, если мало. Все-таки отказались.
Отец настаивал на своем, мама каждый день слезы проливала и приговаривала: «Сукин ты сын, и в кого же ты уродился?»
Дед тоже не стал меня больше защищать. Его обидело, что я отказался от рекомендованной им невесты.
Не раз поглядывал я на железную дорогу. Уехать, что ли, куда-нибудь да устроиться рабочим? Но не было документов.
– Возьми мне паспорт, – просил я отца, – я устроюсь на заводе.
– Нет, – говорит, – у нас и дома, что твой завод, только работай, а завод и без тебя обойдется. Вот женить тебя надо на Даше, а то ее уже сватают.
– Ну и пусть сватают!
Опять скандал, побои.
Тогда я решил применить последний способ – пойти и сказать Даше, что, мол, если ты пойдешь за меня замуж, буду каждый день тебя колотить, – может быть, она и откажется.
И вот прохожу я мимо дома Мешковых, смотрю, в дверях стоит Даша. Подхожу к ней. В руках у меня была палка. Подошел и не знаю, что говорить.
– Даша, – выдавливаю из себя наконец, – ты так и решила пойти за меня?
– Мама отдает, а я не против.
– Не ходи, Даша, за меня, какая у нас с тобой жизнь будет? Ты ведь знаешь – я злой, колотить буду каждый день.
– Ну что ж, колоти; поколотишь-поколотишь – надоест.
– Ах, так! – замахнулся палкой, а сам медлю ударить, выжидаю, пока она скроется за дверью, чтоб эффекту было больше.
Даша скрылась. Я сильно ударил в дверь и сказал:
– Спасибо – убежала, а то бы убил.
Слышу из-за двери ее голос:
– Нос не дорос – бить, губастый черт!
За обедом мать с отцом опять за свое.
– Вот что, – говорю я, – а если потом с ней жить не буду, тогда что?
– Ты только согласись, а там как хочешь.
– Ну, – говорю, – смотрите. Я согласен.
Сразу у всех настроение изменилось.
– Давно бы так! – говорит отец.
Мать и обедать не стала, побежала к Мешковым.
Через неделю сыграли свадьбу. Прожили мы с Дашей недолго и развелись. Старые обычаи исковеркали и мою юность и Дашину. Проклятое прошлое! Как счастлива молодежь, не знающая всех этих унижений и трагедий, этого страшного быта старой деревни…
Занимаясь нашим маленьким хозяйством, я, как никогда, чувствовал, что где-то рядом идет большая, кипучая жизнь, делается что-то важное. А я знаю все то же поле, огород, сарай – и больше ничего. Шел 1918 год.