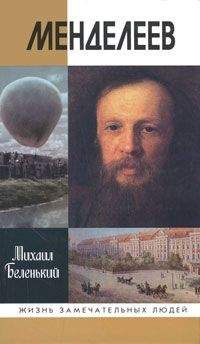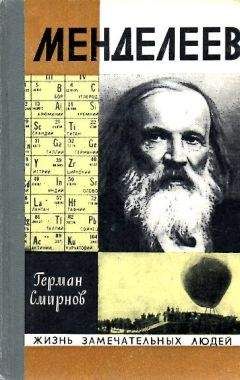В последние годы Павлу Петровичу пришлось пережить много тревожного. Когда конференц-секретарь Исеев за какие-то злоупотребления был удален, удален был потом и ректор (кажется, Шамшин), место это было предложено гр. Ивану Ивановичу Толстому. Толстой задумал реформы. Прежних академических профессоров он стал удалять и обратился к передвижникам с предложением профессорских занятий в Академии. Передвижники не признавали академическую школу, они были реалисты, отрицавшие чистое искусство, но это были честные, убежденные люди, сильные и крепкие своим единением. Первый, кто принял приглашение Толстого, был Архип Иванович Куинджи. Одного за другим он привлек на свою сторону своих товарищей передвижников -- Репина, Вл. Маковского, Киселева, Шишкина, Кузнецова. Когда Ив. Ив. Толстой стал осуществлять свою реформу, Чистяков ушел в тень. Не знаю, по своей инициативе или под давлением обстоятельств, он оставил живописные классы, перешел в мозаичное отделение и только несколько лет спустя был приглашен вновь профессором живописи на место ушедшего И. Е. Репина. Все время он оставался верен себе. Скончался Павел Петрович в Детском Селе 80-ти с чем-то лет. Он оставил по себе у всех добрую и светлую память, а в учениках глубокую вечную благодарность.
Влияние его на русскую живопись еще не оценено вполне. Стоит только вспомнить, что из его школы вышли Серов, Врубель, Савинский, Бруни. Репин и Поленов хотя и не были его учениками, но высоко ценили его, как учителя.
Из профессоров лекторов охотней всего слушали А. В. Прахова, который читал историю искусств. Он путешествовал по Египту и особенно долго останавливался на искусстве древних египтян. Он так живо описывал нам храмы в Луксоре и Фивах, точно мы сами там побывали. При мне он читал только один год, его сменил Сабанеев; его лекции были менее живы, но более систематичны. Охотно ходили мы также на лекции анатомии, которые читал профессор Ланцерт. Она продолжалась два часа, час собственно лекция и час рисование скелета и мускулов. Иногда он приносил в банке препараты, но показывал тем, кто хотел и мог их видеть. Он прекрасно знал свой предмет, но на лекции художникам, которым читалась анатомия неполная, только скелет и мускулы, он смотрел не очень серьезно. Любил шутить: помню, как он вызвал меня на экзамене и сказал. "Ну, нарисуйте нам череп -- череп девицы... только хорошенькой". В Академии он любил бывать, ходил в Кушелевскую галлерею и в Скульптурный Музей.
Экзамены для нас вообще были не трудны, и паники не было. Больше всего волновали и оживляли учеников эскизы. Тема давалась профессорами большей частью из Библии и античного мира. Эскизы могли подавать все, но обязательны они были для натурного класса. Мой первый эскиз, заданный профессором Якоби -- "Клеопатра, едущая к Антонию по Нилу". Я так увлеклась этим эскизом, что работала его всю ночь, ползая по полу, так как у меня в комнате в то время не было ни мольберта, ни довольно большого стола. Представленные эскизы делили на четыре категории: в первую попадали лучшие, в четвертую худшие. Мне кажется, мой эскиз был слабо исполнен, но попал во вторую категорию за фантазию, которой я дала полную волю.
Во дворе Академии, отдельно от главного здания, за садом, помещался батальный класс, где рисовали лошадей. Их приводили солдаты из разных полков, частью и из казачьих. Там был особый мир. Профессор Виллевальде приходил раза два в неделю; остальное время ученики оставались одни и очень весело проводили время. Я ходила туда иногда к моей землячке Екатерине Захаровне Краснушкиной, избравшей своей специальностью батальную живопись. Высокая, худощавая, со стриженой курчавой головой, вечно смеющаяся, она была очень мила и забавна. Баталисты были народ веселый, в то время в батальном были: Мазуровский, Самокиш и другие. Они устраивали в классе баталии, турниры, а Краснушкина раз вздумала покататься в классе, села на лошадь, которая, на беду, оказалась норовистой и стала выделывать скачки и разные штуки. Когда ее укрощали, вдруг неожиданно вошел Виллевальде, но он не рассердился, а даже смеялся, когда испуганную Краснушкину солдаты и ученики снимали с лошади. Мы ходили в батальный изредка делать наброски лошадей и отчасти для развлечения.
В скульптурном классе преподавали Фон-Бок и Лаверецкий, между учениками были Беклемишев, Залеман, Диллон и Гинцбург. Беклемишев, молодой красавец, высокого роста, с длинными черными волосами и глазами, прекрасная модель для героя романа. Гинцбург -- маленькая фигурка, смеющийся, живой отлично имитировавший разные типы: портного, дамы, делающей прическу, и проч., и проч. Диллон, серьезно работавшая и подававшая надежды; Залеман непомерного роста, угрюмый, молчаливый, упорно работавший и изучавший формы, не разменивая своего таланта на мелочи, не стремившийся блистать мелкими композициями, таивший свои художественные образы в глубине души, чтобы проявить их, когда овладеет возможностями, техникой.
Из учениц я больше всех сошлась тогда с Погосской, дочерью писателя Погосского. Лагода в то время оставила Академию и занималась у Шишкина, Капустина тоже вышла из Академии, занялась литературой и писала в то время свой первый роман "К росту", который одобрил Достоевский. София Александровна Погосская много рассказывала мне о своей заграничной жизни. Отец ее был эмигрантом, другом Герцена, о котором София Александровна также говорила мне. Мы ходили с ней по Кушелевской галлерее, по таинственным академическим коридорам. Она способствовала до некоторой степени моему художественному развитию, так как видела уже главные музеи Европы и передавала мне свои впечатления. Иногда мы с ней спускались в нижний этаж, в мастерскую пейзажиста Орловского, ее знакомого. Он показывал нам свои новые картины, которые писал очень быстро по летним этюдам. Поляк, среднего роста, очень светлый блондин, с большими светлыми глазами, красноватым лицом, он не блистал красноречием, но мастерская была переполнена его этюдами, которые красноречивей слов передавали прелесть малороссийской природы. В то время он писал большой пейзаж Киевской губернии. У него встречали мы разных посетителей, видели там и знаменитого артиста Самойлова, уже пожилого, но остроумного и живого. У Орловского висело чучело тетерки. Самойлов нашел, что движение придано ей неправильное и начал представлять, быстро двигая руками и всем телом, полет тетерки. Было очень забавно и, кажется, верно. Он любил расспрашивать нас о наших занятиях, сам он рисовал акварелью. Впоследствии у меня был его маленький морской вид, сделанный очень недурно акварелью {Погиб вместе с другими картинами.}