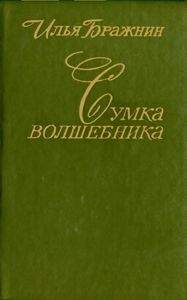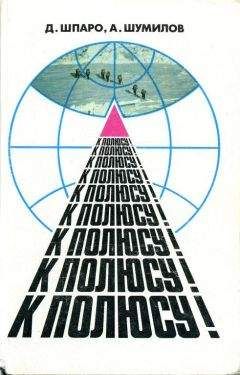Не будем же стенать по поводу того, что не сохранилось прежних чудесных полагушек и повойников, деревянных мосточков, водоразборных будок, где за бумажный билетик, вроде нынешнего трамвайного, можно было получить ушат ледяной воды, и прочих примет старого Архангельска. Процесс изменения жизненных форм необратим, и прежнего не воротишь. Впрочем, это вовсе не значит, что о нём не надо знать, что оно ничего для нас не значит, не имеет никакого смысла и никакой цены.
Иваны непомнящие никогда не были и не будут нашим идеалом. Преемственность жизненных форм безусловна, и в тридцать шестом году, приехав в Архангельск после пятнадцатилетнего отсутствия, я с удовольствием проехался в трамвае, бегущем по рельсам, которые когда-то при мне укладывались неподалёку от базара с полагушками, туесами и широконькими крынками, с которых расторопные жонки ловкими и неуловимо быстрыми движениями снимали сметанную плёнку и сворачивали её вчетверо.
Новый Архангельск есть новый Архангельск, и он хорош своими многоэтажными зданиями, своим лесотехническим институтом и другими вузами, которых в моё время не было и в помине, своим мостом через Двину, строительства которого мы, старые архангелогородцы, так страстно и так долго добивались.
А старый Архангельск, - что ж, он остаётся старым Архангельском, доброй памятью нашей. Он остается со мной. Хочу, чтобы он остался и с вами.
Теперь еще несколько строк о втором посещении Архангельска после расставания с ним в начале двадцатых годов. Попал я на этот раз в родной город неволей, и занёсший меня туда ветер был недобрым ветром.
Было это так. Весь первый год Великой Отечественной я провел на Карельском фронте, в Заполярье. Работал в газете Четырнадцатой армии «Часовой Севера». Редакция находилась в Мурманске, но я бывал в ней мало. Больше мотался по передовой. Облазил все участки Мурманского направления, ездил на Кандалакшское. Завязал очень много крепких и дорогих мне знакомств, приобрел множество друзей, со многими из которых и сейчас не теряю связи, а с иными и вижусь время от времени.
Был я в те дни деятелен, как муравей, и худ, как щепка, вполне благополучен - ни разу не был ранен и все фронтовые тяготы переносил, как положено.
И вдруг всё оборвалось, как ножом обрезало. За тринадцать месяцев беспрерывных фронтовых скитаний перенапрягся. Открылась грудная жаба и ещё сто одна болезнь. Меня отвезли в госпиталь. Это произошло десятого июля сорок второго года. Денек-другой пролежал я в Мурманском госпитале, потом, когда город стали бомбить почти беспрерывно, раненых и больных, и меня в том числе, из города эвакуировали. Сперва привезли меня в Мончегорск. Там пролежал я три дня, а потом уложили меня в санитарный поезд и повезли в… Архангельск.
Сутки плелись мы до Беломорска (бывшее становище Сорока), в котором даже земля деревянная, точнее, опилочная. Лесопильные заводы Беломорска давали столько опилок, что девать их было, некуда, и они использовались на покрытие мостовых. Потому все сорочане (а позже беломорцы) ходили по опилкам.
От Беломорска на Мурманской железной дороге за время войны проложили ветку к Обозерской на Северной железной дороге. Таким образом, Мурманск соединялся теперь железной дорогой не только с Ленинградом, но через Обозерскую - Вологду и с Москвой. Переброска военных грузов, шедших из Мурманска беспрерывным потоком в центр и на другие фронты, значительно упростилась и стала безопасней.
Девятнадцатого июля я попал, наконец, возле Обозерской на дорогу Москва - Вологда - Архангельск. Теперь до Архангельска было немногим более ста километров. И уже на другой день я лежал в одном из архангельских госпиталей на южной окраине города, называемой Быком.
Не знаю, по какому неведомому телеграфу узнали мои земляки, что я в городе, но уже на следующий день возле моей госпитальной койки появились работники Архангельского издательства. А ещё через два дня появился в моей палате полковой комиссар П. Шабунин, с которым я встречался в декабре сорок первого года на полуострове Рыбачьем и который, будучи комиссаром оборонительного района Рыбачьего и Среднего полуостровов, вместе с командующим, полковником Д Красильниковым возглавлял защиту этого важнейшего на Севере фронтового участка.
Несколько позже навестил меня комиссар И. Шемякин, с которым я сдружился во время той же тяжкой декабрьской командировки на передовую. Потом появились попавшие во время войны в Архангельск ленинградские писатели Вениамин Каверин и Юрий Герман.
Приходили ко мне и вовсе незнакомые люди, представлявшиеся просто читателями. Оказалось, Архангельск населён многочисленными моими друзьями - и новыми и старыми, и мирного времени и фронтовыми, и пришлыми и коренными архангелогородцами.
Седьмого августа сорок второго года, пробыв в городе более двух недель, я оставлял Архангельск, чтобы после короткой побывки у родных снова вернуться на фронт.
И вот я еду по городу в открытой машине, оглядывая улицы уже глазами архангелогородца. И радуюсь, что город целёхонек, так как немцы его в ту пору не бомбили.
На пристани я усаживаюсь на пароход «Москва», перевозящий пассажиров через реку на вокзал. Это та же «Москва», которая возила меня на вокзал и обратно тридцать лет тому назад. Узнаю каждый её уголок и, конечно, прежде всего её характерный, зычный гудок, слышный во всём городе. Этот, издавна знакомый гудок снова возвращает меня в старый Архангельск, которого уже нет, но который все же есть - по крайней мере, в нас, старых архангелогородцах.
Архангелогородцы, как и вообще северяне, - ужасные непоседы. Они ходили и по Студёному, и по Баренцеву, и по Карскому морям и по Ледовитому океану. Ходили на Новую Землю, на Землю Франца-Иосифа, на Шпицберген и к далёкому, считавшемуся недосягаемым Берингову проливу. Пробовали торить дорогу и к Северному полюсу. Один из них ходил даже с Амундсеном к Южному полюсу.
Эти мореходы, о которых я обязательно расскажу дальше, сопричастны к судьбе Архангельска и его истории, судьбе и истории всего края, всего Севера.
Но прежде, чем уходить вместе с ними от архангельских пристаней в далёкие и неведомые путешествия, я расскажу о красавице Северной Двине, на которой стоят эти пристани. К ней я и обращаю теперь своё сердце и своё слово, что, в сущности говоря, одно и то же.
Родился я на Волге, рос на Северной Двине, доживаю дни свои на Неве. Все три реки хороши и примечательны по-своему. Но всех милей из них мне всё же моя Двина.